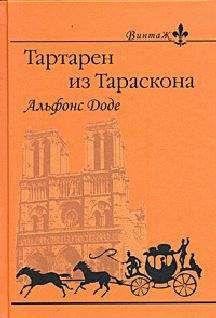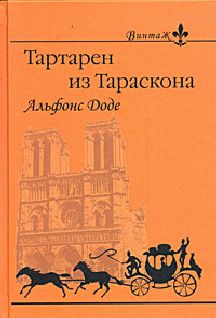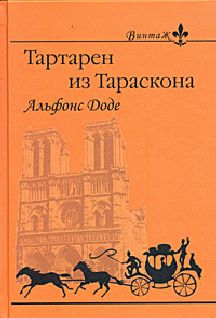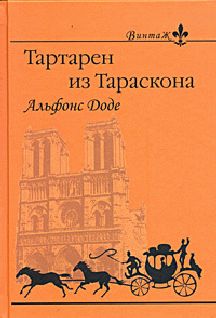«Несчастные! Ведь муж-то все видит», – эта мысль не давала Паскалону покоя.
Но нет, муж ничего не видел, – казалось, он тоже с величайшим удовольствием слушает рассказы великого тарасконца.
По просьбе леди Уильям Тартарен рассказал историю Тараска, святой Марфы и голубой ленты. Рассказывал он о своем народе, о так называемом тарасконском племени, о его обычаях, о его переселении. Потом заговорил о своем образе правления, о своих планах, реформах, о новом кодексе, проект которого он разрабатывал. О кодексе он, между прочим, ни с кем до этого не говорил, даже с Паскалоном, но кто может угадать, что зреет в объемистых черепных коробках у властей предержащих?
Он высказывал глубокие мысли, он был в ударе, он спел несколько народных песен, в частности песню о том, как Жана Тарасконского взяли в плен корсары и как он полюбил дочь султана.
Наклонившись к уху леди Уильям, каким страстным, вибрирующим полушепотом напевал он ей:
Он был полководец, в боях закаленный,
Сединой убеленный,
И лавры венчали его.
А дочь короля, молодая красотка,
Его полюбила
И молвила как-то ему…
Томная креолка, обыкновенно такая бледная, тут вдруг вся порозовела.
Когда он кончил петь, она спросила, что такое фарандола, о которой так много говорят тарасконцы.
– Ах, боже мой, это же так просто! Вот вы сейчас увидите!.. – воскликнул добрый Тартарен.
Не желая ни с кем делить лавры, он сказал своему секретарю:
– Сидите смирно, Паскалон.
Затем встал и принялся выделывать па в ритме фарандолы: «Тра-та-та-там, та-та-тим, та-та-там…» К несчастью, корабль в это время тряхнуло, – Тартарен грохнулся, но сейчас же вскочил и, не унывая, первый посмеялся своей неудаче.
Несмотря на cant [чопорность (англ.)], несмотря на всю свою выдержку, англичане покатились со смеху и нашли, что губернатор просто очарователен.
Наконец подали вина. Леди Уильям сейчас же вышла, а следом за ней Тартарен, резким движением бросив салфетку, не поклонившись, не извинившись, строго придерживаясь легенды о Наполеоне, покинул кают-компанию.
Англичане в недоумении переглянулись и стали перешептываться.
– Его превосходительство вина не пьет… – сказал Паскалон; он счел необходимым объяснить выходку наставника и взять нить разговора в свои руки.
Секретарь тоже очень мило тарасконил, пил кларет, не отставая от англичан, развлекал их и потешал веселой болтовней и повышенной жестикуляцией.
Когда все встали из-за стола, он, будучи уверен, что Тартарен присоединился на палубе к леди Плантагенет, не без тайного умысла предложил командору, заядлому шахматисту, сыграть с ним партию.
Два других гостя беседовали и покуривали возле них. Лейтенант Шип сказал на ухо доктору, по-видимому, что-то очень смешное, потому что доктор залился хохотом, а командор поднял голову и спросил:
– Что такое вам сказал лейтенант Шип?
Лейтенант повторил, и тут они все трое расхохотались еще громче, Паскалон же решительно ничего не мог понять.
А в это время наверху, овеваемый затихающим благовонным бризом, при ослепительном блеске заходящего солнца, купавшегося в море, игравшего на палубе и словно развесившего на всех снастях красную смородину, Тартарен, опершись о спинку кресла леди Уильям, рассказывал ей о своем романе с принцессой Лики-Рики и о том, как мучительно тяжело было им расставаться. Он знал, что женщины любят утешать и что поведать им муки наболевшего сердца – это лучший способ добиться успеха.
О, сцена прощания Тартарена с малюткой, которую сам Тартарен в таинственном полумраке рассказывал шепотом на ухо своей собеседнице! Кто не слыхал этого, тот вообще ничего не слыхал.
Я не берусь утверждать, что рассказ Тартарена полностью соответствовал действительности, что эта сцена не была им хоть сколько-нибудь приукрашена. Во всяком случае, он повествовал о событиях так, как бы ему хотелось, чтобы они происходили: бедная принцесса, пылкая, страстная, в душе у которой шла борьба между дочерним долгом и супружеской верностью, в конце концов вцепилась в героя своими маленькими ручонками и голосом, полным отчаяния, крикнула: «Возьми меня с собой! Возьми меня с собой!» А у него сердце обливалось кровью, но он отталкивал ее и вырывался из ее объятий: «Нет, дитя мое, так надо. Оставайся со своим старым отцом, – кроме тебя, у него никого нет…»
Рассказывая об этом, Тартарен самым настоящим образом плакал, и ему казалось, что прекрасные глаза креолки, устремленные на него, тоже наполняются слезами, а солнце в это время медленно погружалось в море и покидало горизонт, затопляемый фиолетовой мглой.
Внезапно к ним приблизились какие-то тени, и все очарование нарушил резкий, холодный голос командора:
– Поздно уже, дорогая, да и свежо, – идемте!
Она встала и, чуть заметно кивнув головой, вымолвила:
– Покойной ночи, господин Тартарен!
Он был потрясен той глубокой нежностью, какую она вложила в свои слова.
После этого он еще некоторое время прохаживался по палубе, и в ушах у него продолжало звучать: «Покойной ночи, господин Тартарен!» Но командор был прав: воздух быстро свежел, и Тартарен решил идти спать.
Проходя мимо маленького салона, Тартарен увидел в приотворенную дверь своего секретаря: тот с озабоченным видом сидел за столом, подперев одной рукой голову, а другой перелистывая словарь.
– Что это вы делаете, дитя мое?
Верный Паскалон рассказал ему о том, какое неприятное впечатление произвел его внезапный уход, о перешептывании возмущенных сотрапезников, а главное, о таинственной фразе лейтенанта Шипа, которую командор заставил его повторить и которая всех насмешила.
– Хоть я и недурно понимаю по-английски, а все-таки смысла не уловил, только слова запомнил и теперь пытаюсь уразуметь, что же означала вся фраза.
Выслушав доклад секретаря, Тартарен лег в постель, поудобнее, поуютнее вытянулся, повязал голову платком, пододвинул к себе большущий стакан с апельсинной водой и, закурив трубку, которую он всегда выкуривал перед сном, спросил:
– Вы кончили перевод?
– Да, дорогой учитель: «В сущности тарасконец – это тот же француз, только в увеличенном, непомерно увеличенном виде, точно отраженный в зеркальном шаре».
– И вы говорите, что они над этим покатывались?
– Все трое: и лейтенант, и доктор, и сам командор – никто не мог удержаться от смеха.
Тартарен пожал плечами и изобразил на своем лице сожаление:
– Известно, что англичанам редко выпадает случай посмеяться, вот они и рады всякой ерунде! Ну, дитя мое, пора спать, до завтра!
Немного погодя оба они заснули, и во сне один из них увидел Клоринду, а другой – супругу командора, ибо Лики-Рики была уже далеко.
Дни шли за днями и складывались в недели, путешествие превращалось в прелестную, очаровательную прогулку, и Тартарен, так любивший возбуждать к себе симпатию, приводить в восхищение, все время ощущал вокруг себя эту атмосферу и наблюдал самые разнообразные проявления этих чувств.
Он мог бы сказать о себе словами Виктора Жакмона [Жакмон Виктор – известный французский путешественник], который в одном из своих писем выразился так: «Странно сложились мои отношения с англичанами! Эти люди, с виду такие бесстрастные, такие холодные друг с другом, мгновенно оттаивают от моей непринужденности. Они волей-неволей впервые в жизни становятся ласковы; я делаю их добрыми, я в двадцать четыре часа офранцуживаю любого англичанина».
На «Томагавке» все обожали Тартарена – и офицеры и матросы, обожали везде одинаково: и на носу и на корме. Всякие разговоры о том, что он военнопленный, что его дело будет передано в английский суд, были прекращены, – его собирались освободить в Гибралтаре.
А суровый командор, в восторге, что у него такой сильный партнер, как Паскалон, по вечерам часами держал злосчастного вздыхателя Клоринды за шахматной доской, чем приводил его в отчаяние, так как он не мог отнести Клоринде лакомые кусочки от своего обеда. Дело в том, что горемыки тарасконцы по-прежнему влачили в своей каторжной тюрьме жалкое существование эмигрантов, и для Тартарена это была пытка и мука – разливаясь соловьем на юте или же в печальный час заката ухаживая за леди Уильям, бросить случайный взгляд вниз и вдруг увидеть своих соотечественников, сбившихся в кучу, как убойный скот, под охраной часового, и с ужасом от него отворачивающихся, особенно явно после того, как он стрелял в Тараска.
Они не прощали губернатору его преступления, да и он сам не забыл этого выстрела, сулившего ему несчастье.
Уже прошли Малаккский пролив, Красное море, уже обогнули Сицилию, уже близок был Гибралтар.
Однажды утром показалась земля, и Тартарен с Паскалоном, призвав на помощь лакея, начали было укладывать вещи, как вдруг все ощутили толчок, какой бывает приостановке судна. «Томагавк» застопорил. Одновременно послышался приближающийся плеск весел.