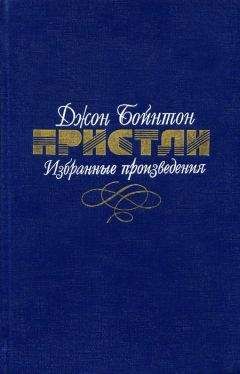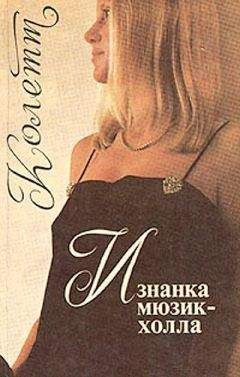Когда мы пришли в его уборную, — она, как комната звезды, была самой большой, — он уже наполнял стаканы.
— До того, как я скажу несколько слов, я хочу, чтобы вы выпили со мной. Сэм и Бен, я знаю, предпочитают пару кружек крепкого эля, но и им придется разочек удовольствоваться моим любимым напитком. Итак, за ваше общее здоровье и за блестящее последнее выступление. Да, оно было последним. Но прежде чем объяснить почему, я хочу вручить вам вот это. — И он начал раздавать конверты. — Здесь деньги за две недели. Вы, Сэм, как только выслушаете то, что я должен сказать, спускайтесь с Беном и Тьюби вниз и начинайте паковаться. А ты, Ричард, останься, ты мне нужен. И чтобы в понедельник, с раннего утра, все было готово к отправке, а то я уже договорился с компанией гужевых перевозок: они приедут и переправят ящики на склад, в Лондон, где реквизит будет лежать до моего отплытия. Потому что я уезжаю в Америку. Все уже решено.
Мы все заговорили разом, но он допил свое шампанское и попросил нас замолчать.
— Я еду в Америку не просто потому, что меня приглашают и готовы заплатить хорошие деньги. Дело в том, что мне не по нраву эта война. Я в нее не верю. На мой взгляд, нечего было ее затевать. Но ее затеяли, и теперь никто не в силах ее остановить. И потому я уезжаю в Америку. — Он взглянул на меня. — То, что я сейчас скажу, к тебе не относится, так что не вмешивайся. — Я кивнул, и он, бегло улыбнувшись, повернулся к остальным. — По разным причинам я никого из вас не могу взять с собой. И мне очень неприятно оставлять вас без работы…
— Да уж конечно, Ник Оллантон. — Дорис не отрывала от него свирепого взгляда. — Да еще в такое время.
— Вы считаете, что сейчас плохо оказаться без работы?
— Безусловно. Я-то не пропаду, надо только посмотреть, как там дела у Арчи, но эти трое…
— Ошибаетесь, Дорис. Послушайте. Для работы время настало не плохое, а хорошее, это я насчет того, что искать работу не придется. Китченер требует сто тысяч человек. И он их получит. И еще сотню тысяч получит. А потом еще и еще. Они уже призвали всех солдат запаса и всю территориальную армию. А что это означает? Это означает, что через несколько месяцев будет острая нехватка рабочих рук, начнут брать подряд и мужчин и женщин, если женщины пожелают изготовлять амуницию. Да, да, Дорис, вы им очень понадобитесь, если только Арчи это допустит. Что касается Сэма с Беном, то они — механики, и им никак не может быть плохо. На будущий год в это время они будут получать втрое больше, чем я им плачу.
— А как же я, мистер Оллантон? — спросил Тьюби, и глаза его потемнели от огорчения. — До вашего приглашения дела мои шли из рук вон плохо.
— На вашем месте, Тьюби, я бы оставил сцену, если, конечно, не появится какое-нибудь заманчивое предложение. Есть работа, которую маленький человек может выполнить не хуже большого, а иногда и лучше. Кроме того, если из гражданской жизни призывают в армию сотни тысяч людей, то кто-то же должен их заменить. Пока что у людей о войне превратное представление: они думают, что война кончится через несколько месяцев. Но я знаю, что это не так. Вы будете нужны, Тьюби, уверяю вас. И все остальные тоже. Так что выбросьте из головы мысль, что я покидаю вас и бросаю на произвол судьбы, как говорится. Но я действительно покидаю вас, и на этом прощайте.
И он всем пожал руки.
— Я тоже прощаюсь с вами, — сказал я.
— Правильно, Ричард, мой мальчик, прощайся. Только сначала наполним стаканы.
Так я и сделал, а потом последовал примеру дяди Ника. Пожимая руки Сэму и Бену, я сказал вполголоса:
— Инспектору Краббу так и не удалось выжать признания, что Барни вовсе не уходил рано, вместе с вами.
— Он нас долго обрабатывал, этот инспектор, — сказал Сэм. — Упорный тип, ох упорный. Но и мы с Беном упрямы. Хейесы этим славятся.
— Точно, — подтвердил Бен, и это был один из немногих случаев на моей памяти, когда он вообще открыл рот. И больше не сказал ни единого слова.
— Для меня наша работа была большой радостью, мистер Хернкасл, — сказал Тьюби проникновенно. — И если когда-нибудь я оставлю сцену, — а нельзя не признать аргументацию мистера Оллантона, — то сохраню самые-самые приятные воспоминания о нынешнем ангажементе. Мне и сейчас порой кажется, что я на самом деле доктор Рам Дасс из Бомбея.
Когда я взял за руку Дорис, она негодующе закричала:
— Ну вот, сейчас я зареву в три ручья. Совсем сдурела. Ладно, давай уж поцелуемся.
Она вырвала свою руку, обняла меня и наградила сердитым поцелуем.
— Передай привет Арчи, он мне понравился.
— Я знаю. От него все без ума. Кроме будущих клиентов. Найди себе хорошую девушку, Дик. Это не так-то просто. Большинство из них и крыши над головой не стоят — неряхи и бездельницы.
Этот сердитый выкрик был последним, и больше я о Дорис не слышал лет восемь-девять.
У дяди Ника была машина, и мы в молчании поехали в нашу берлогу. Под влиянием шампанского я минут на десять повеселел, но потом чувствовал только грусть и внутреннюю пустоту. Дорис и маленького Тьюби я любил, и хотя не питал таких же чувств к Сэму с Беном, но с ними мы много месяцев проработали бок о бок в самых разных местах. А в этот вечер мы, все вместе, дали такое чудесное представление, которое многим зрителям запомнится на всю жизнь. Потом они станут рассказывать: «Вы только послушайте его. Отец всегда вспоминает индийского мага, которого мы видели в „Эмпайре“ в самом начале войны. И я могу подтвердить, что это был замечательный номер. Теперь такого не увидишь». Однако вы поймете, что я не мог упрекать дядю Ника за то, что он распустил свою труппу.
Мы ужинали в одиночестве: других постояльцев не было, и нам подали в маленькой задней комнате. Я как сейчас ее вижу: до отказа заставленная мебелью, обтянутой потертым плюшем пурпурного и ядовито-зеленого цвета; всю стену занимала огромная, очень плохая картина: по словам хозяйки, это был подлинник, масло, наследство, оставшееся после дядюшки; на полотне веселые кардиналы пили за здоровье друг друга и чокались бокалами с красной краской.
Пока мы управлялись с холодной бараниной, салатом и пирогом с черникой, разговор шел о Дорис, Тьюби и Сэме с Беном; дядюшка вспоминал и прежних своих помощников. Но когда он закурил сигару, а я — свою трубку, непринужденная беседа вдруг оборвалась.
— Ты, наверное, догадываешься, почему разговор в уборной не имел к тебе отношения. Я хочу, чтобы ты ехал со мной, мальчик. У меня там контракт с Китом на сорок недель, а потом еще на месяц — в Нью-Йоркском «Паласе». Работа будет трудная, трудней, чем здесь, — больше часов, длинней переезды, но зато — сколько впечатлений! Это воистину Новый свет, Ричард. Не стану утверждать, что это идеальная страна. Но пока Европа перерезает себе глотку, Америка будет расти и расти. Я еще не могу сказать точно, но полагаю, что дней через десять мы отплываем на «Лузитании».
— Простите, дядя Ник. Мне очень жаль, но вам придется ехать одному. Я иду добровольцем. В новую армию Китченера.
Он положил сигару.
— Черт возьми, парень! Ты рехнулся. Идти в армию? Зачем тебе армия? Я приведу тебе десять отличных доводов против, а ты попробуй привести хотя бы один — за.
— Это трудно объяснить… — начал я медленно.
— Невозможно, если только ты в своем уме.
Я в нерешительности медлил с ответом, тогда он сунул сигару в рог, глубоко затянулся и продолжал:
— Ну ладно, малыш, давай дальше. Давай! — выкрикнул он сквозь сигарный дым. — Должен же ты что-нибудь сказать в свою защиту, пусть даже глупость.
Я избегал встречаться с его гневным взором и, глядя на бражников-кардиналов, неуверенно проговорил:
— Я не хочу быть солдатом. Я очень желал бы, чтобы войны не было. И не такой уж я горячий патриот. Все эти маханья флагами и речи о короле и королевстве не вызывают у меня криков «ура!».
— Надеюсь, — зарычал дядя Ник. — Все это — дерьмо собачье. Но продолжай, продолжай.
— И все же, я знаю, что буду чувствовать себя отвратительно, если уеду в Америку. И никогда не смогу думать ни о чем другом. Я буду считать, что сбежал от опасности. У вас все это по-другому… Вас я не виню…
— И на том спасибо. Это чертовски мило с твоей стороны!
— Но я человек молодой… И живу здесь… И чувствую, что мой долг — испытать судьбу, как делают многие другие… — закончил я довольно нескладно, отчасти потому, что решение мое, твердое и ненерушимое, не было до конца продуманным и сознательным, но еще и по той причине, что наша с ним жизнь казалась мне бесплодной и пустой, а этого я не мог прямо сказать ему. Я шел в армию не потому, что хотел бежать из варьете, — все было не так просто, — но для меня эта жизнь была совсем иной, чем для него, и я уже начал понимать, что если раньше получал здесь пищу для ума, то теперь, несмотря даже на такие выступления, как сегодняшнее, варьете уже ничего не могло мне дать.