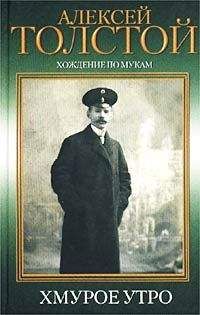Два красноармейца из 39-го полка, отощавшие до того, что без сил сидели под стогом, рассказали наехавшим на них Телегину, Рощину и комиссару Чеснокову очень невеселую историю…
– Напрасно ездите по полю, никого не соберете, – сказал один. – Был полк, нет его.
Другой, продолжая сидеть спиной к стогу, оскалил зубы:
– Продали нас – и весь разговор… Что мы – не понимаем боевых приказов? Мы все понимаем – продали… Командование, мать твою! Картонные подметки ставят! – И пошевелил пальцами, торчавшими из сапога. – Кончили воевать… Кончено… Аминь!
У этого стога Телегин и сплоховал. В памяти его выплыл чудовищный радиатор с двумя, разнесенными в стороны, прожекторами. Ну, где же тут оправдаться! С ленивым благодушием все проворонил, прошляпил, растерял…
– Подождите на меня кричать, – сказал он Рощину и Чеснокову. – Ну, ослабел, ну, струсил, ну, виноват… – И он, отвратительно морщась, начал прятать наган в кобуру. – Всю жизнь мне везло, всю жизнь ждал, что сорвусь когда-нибудь… Ладно, пускай судит ревтрибунал…
– Да черт тебя возьми, не в тебе сейчас дело! – дергая щекой, закричал на него Рощин. – Куда ты ведешь эскадрон? На восток, на запад? Какие у тебя соображения? Какая непосредственная задача? Думай!
– Дай карту…
Телегин сердито взял карту из рук Рощина и, рассматривая ее, бормотал под нос всякие обозные выражения, относящиеся к самому себе. Названия городов, сел, хуторов прыгали у него в глазах. Он и это, наконец, преодолел. После спора было решено – двинуться на восток, ища встречи с частями Восьмой армии.
Весь остаток дня шли на рысях – где только было возможно. Темной ночью, когда уже не видать конских ушей, выслали разведчиков поискать поблизости затерявшееся в непроглядной тьме село Рождественское. Остановились, не спешиваясь, и долго ожидали. Вадим Петрович придвинул лошадь к лошади Телегина, коснулся коленом его колена.
– Ну? – спросил он. – Может быть, все-таки объяснишь?.. Разговаривать с тобой можно?
– Можно.
– Для чего ты устроил этот спектакль?
– Какой спектакль, Вадим?
– С незаряженным револьвером…
– Ты с ума сошел!.. – Иван Ильич перегнулся в седле к нему, но так ничего и не различил, кроме неясного пятна с черными глазницами. – Вадим, значит, не ты вынул патроны?
– Не я вынул патроны из твоего револьвера… Начинаю думать, что ты хитрее, чем кажешься…
– Не понимаю… Смалодушничал… при чем тут хитрость… я бы на твоем месте не вспоминал бы уж…
– Не виляй, не виляй…
Говорили они тихо. Рощин весь дрожал, как на парфорсном ошейнике.
– Весь эскадрон прекрасно видел эту омерзительную сцену у стога… Знаешь, что они говорят? Что ты комедию ломал… Жизнь покупал в ревтрибунале…
– Черт знает что ты говоришь!..
– Нет! Ты уж выслушай! – Лошадь под Рощиным тоже начала горячиться. – Ты должен ответить мне во всю совесть… В такие дни испытывается человек… Выдержал ты испытание? Понимаешь ты, что на тебе пятно?.. Ты не имеешь права быть с пятном…
Лошадь его, ерзая, больно хлестнула хвостом по лицу Телегина. Тогда Иван Ильич прохрипел голосом, упертым в горловую спазму:
– Отъезжай!.. Я тебя зарублю!..
И сейчас же комиссар Чесноков сказал из темноты:
– Ребята, будет вам лаяться, – патроны я вынул.
Ни Рощин, ни Телегин ничего не ответили на это. Не видя друг друга, они тяжело сопели, – один от жестокой обиды, другой – весь еще ощетиненный от ненависти. Из темноты раздались короткие, как выстрелы, голоса:
«Стой! Стой!» – «Что за люди?» – «Не хватай…» – «Чьи вы?» – «Мы свои, а вы чьи, туды вашу растуды?»
Это разведка наскочила на разведку, и верхоконные, крутясь друг около друга и боясь в такой чертовой тьме обнажить оружие и от злого задора не желая разъехаться, кричали и ругались, уже чувствуя по крепости выражений, что и те и другие – свои, красные.
«Так чего же ты за узду хватаешь?..» – «Какой части?..» – «Мать твою богородицу не спросили, – мы крупная кавалерийская часть». – «Где ваша часть?» – «Заворачивай с нами…»
Обе разведки, наконец, угомонились и мирно подъехали к эскадрону. Оказалось, что село Рождественское – неподалеку, за лесом и речкой. На вопрос – какая войсковая часть находится в селе – один из чужих разведчиков ответил не слишком вежливо:
– А вот приедете, узнаете…
В избе за столом сидели Семен Михайлович Буденный и два его начдива и пили чай из большого самовара. Семен Михайлович, увидев входящих Телегина, Рощина и Чеснокова, сказал весело:
– Нашего войску прибыло. Здравствуйте. Садитесь, пейте с нами чай.
Они подошли к столу и поздоровались с Буденным, лукаво поглядывающим на бродячего комбрига и его штаб (ему уже все было известно), поздоровались с начдивом Четвертой, который был небольшого роста, но с такими устрашающими усами, что их легко можно было заложить за уши, с начдивом Шестой, протянувшим каждому большую руку, сжимая ее так, будто сгибал подкову, – молодое и румяное лицо его выражало глубочайший покой.
Семен Михайлович спросил, хорошо ли они расквартировали на ночь свою часть и нет ли какой жалобы или просьбы? Рощин ответил, что расквартировались, как могли, жалоб никаких нет.
– А нет, так тем лучше, – ответил Буденный, отлично зная, что в селе, где стал на короткую ночную передышку его конный корпус, даже мухе негде приткнуться как следует. – Так что ж вы стоите, берите лавку, присаживайтесь. А ведь я вас хорошо запомнил, товарищ Телегин, баню тогда устроили донским казакам… Эге… – И он, очень довольный, щурясь, оглянул собеседников за столом; начдив Шестой спокойно кивнул, подтверждая, что действительно была тогда баня казакам, и начдив Четвертой гордо, сухо кивнул калмыцким лицом. – Значит, на этот раз Мамонтов вас потрепал маленько. А что с вами – комендантская команда или боевая часть?
– Боевая часть, усиленный эскадрон, – сказал Телегин.
– Кони в каком состоянии?
– Кони в прекрасном состоянии, – быстро ответил Рощин, – кованы на передние ноги.
– Скажи – даже кованы на передние ноги! – удивился Буденный. – Я думаю, зачем вам идти далеко – искать Восьмую армию, может быть, она уже не там, где была…
– Я должен подать рапорт командарму, – сказал Телегин.
– Подай рапорт мне… А что, начдивы, берем комбрига с его усиленным эскадроном?
Оба начдива согласно кивнули. Буденный из жестяной коробочки взял щепоть табаку и начал свертывать.
– Далеко ходить вам некуда, – повторил он. – Присоединяйтесь к нам. Мы так вот с начдивами как-то посидели и подумали, а подумав, решили: кони у нас жиреют, бойцы у нас скучают, – пойдем на север – искать генерала Мамонтова. Вот и бегаем, – он от нас, а мы за ним…
Семен Михайлович шутил, а дела были очень серьезные. Узнав о переходе корпуса Мамонтова через красный фронт, он рискнул своей головой, ослушался личного приказа председателя Высшего военного совета – неуклонно продолжать выполнение явно теперь глупого и давно уже опороченного, если не предательского, военного плана, – и по собственному разумению бросился в погоню за Мамонтовым. И Буденный, и его начдивы хорошо представляли себе, как яростно заскрипели перья в канцелярии главкома и какие, пахнущие могилой, угрозы ожидают их на «морзянке», на конце прямого провода. Но спасение Москвы было им дороже, чем свои головы. А спасение они видели только в немедленной погоне за Мамонтовым, в разгроме этой лучшей конницы белых. А то, что она не выдержит удара семи тысяч буденновских сабель и ляжет, порубленная, где-нибудь на широких полях между Цной и Доном, в этом они не сомневались, – лихое дело было настичь Мамонтова, который перенял у бандитов обычай сменять подбитых и усталых коней по селам и хуторам.
У Мамонтова, в его лихих, но избаловавшихся донских полках, насчитывалось значительно больше сабель. Но он не искал встречи с Буденным, он боялся гнавшегося за ним опытного противника: это была уже не партизанская конница, но самое страшное, с чем – не дай боже – встретиться, сшибиться в чистом поле, – регулярная русская кавалерия. Буденный двигался медленнее, но умнее, – то выбирал короче или удобнее дорогу, то жал Мамонтова в такие места, где трудно было добыть фураж или свежих коней.
День за днем шла эта погоня, смертельная игра двух мощных конниц. Дымами с заревами в осенних туманах отмечался путь Мамонтова. Он набрасывался на тыловые части красных и торопливо отскакивал в сторону. И, наконец, Буденный обманул и настиг его. Ранним утром, чуть только проступили угольные очертания старых ветел на огородах, Семен Михайлович ворвался с эскадроном в плохонькую деревеньку, где ночевал Мамонтов.
Но тотчас на другом конце деревеньки из ворот вылетела рыжая тройка и стала уходить. В открытой коляске, обернувшись на сиденье, Мамонтов, с непокрытой головой, в незастегнутой шинели, несколько раз выстрелил по скачущему головному усатому всаднику в черной бурке, – он узнал Буденного, но карабин плясал у него в руках. За тройкой погнались, но рыжие донские кони, как ветер, унесли коляску.