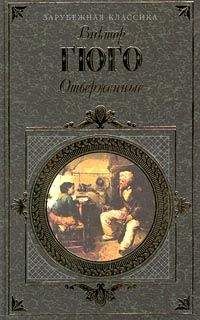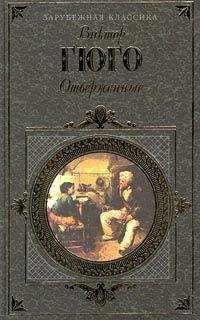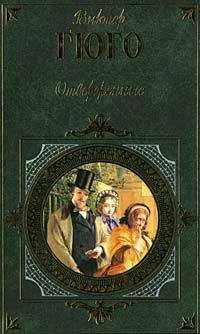Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шли в два ряда гнусного вида конвойные в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в серо-голубые и изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязями, с тесаками, ружьями и палками, — настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошаек сочеталась с властностью палачей. Тот, кто, по видимому, был их начальником, держал в руке бич почтаря. Эти подробности, стушеванные сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы, с саблями наголо.
Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только еще съезжала с бульвара.
По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, появившаяся неизвестно откуда и собравшаяся в мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В ближних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на зрелище.
Скученные на дрогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу. А в остальном их одежда являла собой причуды нищеты. Она была отвратительно несуразна; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и, рядом с блузой, черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, на других — плетушки; виднелись волосатые груди; сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку: храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом лишаи и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто похожее на черный камень и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него: это был хлеб. Глаза у всех были сухие, потухшие или светившиеся недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые зевали; их лохмотья внушали ужас; ноги болтались, плечи колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза заливались смехом ребятишки.
Эта вереница повозок, какова она ни была, наводила на мрачные мысли. Можно было ожидать что не сегодня-завтра разразится ливень, потом еще и еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам стучать, цепь по-прежнему будет держать их за шею, ноги по-прежнему будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных, под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды.
Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно мешки с мусором.
Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Языки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно — то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рот трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря, наводя черные тени, подчеркивала жалкие профили; все были изуродованы нищетой; это было настолько чудовищно, что, казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывавшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попурри из пользовавшейся в то время известностью Весталки Дезожье; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками.
В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных; там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия девичьих головок с выпущенными на виски завитками, детские и потому страшные лица, тощие лики скелетов, которым не хватало только смерти. На первой телеге сидел негр, в прошлом, быть может, невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравнитель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних глубинах общественного дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, и разумение, перешедшее в отчаяние. Тут не из кого было выбирать: эти люди представляли собой как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены наудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега — свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой вопили; на третьей выпрашивали милостыню; на одной скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствовали; последняя была нема, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении.
Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице Апокалипсиса, а, что еще страшнее, на позорных тюремных повозках.
Один из конвойных, державший палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворошить ею эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти и приговаривала: «Это тебе урок, негодник!»
Пение и брань все усиливались; наконец тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому знаку ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, и это удвоило веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух.
Взгляд Жана Вальжана стал страшен. То были уже не глаза; то было непроницаемое стекло, заменяющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору предстало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть, — и не мог двинуть пальцем. Иногда увиденное овладевает вами и как бы вцепляется в вас. Он застыл, пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый, спрашивая себя в невыразимой смутной тревоге, что означает это зловещее преследование, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу, — обычное движение, тех, к кому внезапно возвращается память, — он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу.
Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула:
— Отец! Что такое в этих повозках?
Жан Вальжан ответил:
— Каторжники.
— Куда же они едут?
— На каторгу.
В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя, — то было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их в состояние отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков.
Козетта дрожала с головы до ног.
— Отец! И все это — люди? — снова спросила она.
— Некоторые из них, — ответил несчастный.
Это был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направлявшийся по дороге в Мен, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но, чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продолжить пытку.
Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленный. Такая встреча равносильна удару; она оставляет по себе грозную память.
Однако Жан Вальжаи, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она задавала еще вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой, сказала: