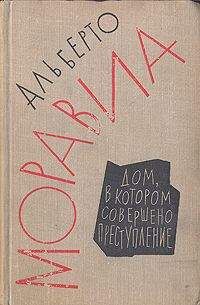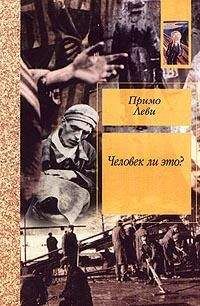Ну как, тебе легче?
Перевод Я. Лесюка
Уже целый час он сидел в потемках возле столика, на котором стоял телефон. Сперва он ожидал спокойно, удобно развалясь в кресле; ярко горела лампа, и он перелистывал какой-то журнал. Потом он заметил, что ждать при свете еще тревожнее: вид мебели, от которой, как ему казалось, исходило тягостное беспокойство, разочарование и ярость, словно усиливал владевшую им тоску. Но больше всего ему не хотелось видеть телефонный аппарат — этот черный безмолвный аппарат, который упорно не давал ему услышать любимый голос. В конце концов он погасил свет и с удивлением обнаружил, что темнота принесла огромное облегчение, как будто кресла, столики, буфет, диван и вправду ожидали вместе с ним, а теперь, заставив их погрузиться во мрак, он в какой-то степени умерил терзавшую его тревогу. Это открытие его рассердило: ведь что ни говори, мебель — всего лишь мебель, и нелепо приписывать ей свои чувства! Эта мысль несколько отвлекла его, и он убил таким образом еще полчаса. Затем послышался звонок у двери, Джакомо вспомнил о докучливом визите, от которого у него не хватило мужества избавиться, встал, ощупью прошел в переднюю и отпер дверь.
— Как? Ты сидишь в потемках? — спросила Эльвира, входя.
— Прости, пожалуйста. Я погасил свет, чтобы немного отдохнуть.
Он увидел, что гостья направляется к дивану, и поспешно остановил ее:
— Видишь ли, лучше нам сесть здесь, — проговорил он, указывая на стул, стоявший около столика с телефоном.
Она бросила взгляд на аппарат и сказала:
— Хочешь остаться возле телефона? Ждешь звонка? — И без всякого перехода прибавила: — Так вот, у меня новости, много новостей.
— Каких?
— К сожалению, малоприятных.
Эльвира села, поставила на колени огромную сумку и принялась рыться в ней, засунув туда до локтя свою худую руку. Джакомо заметил, что ее полудетское личико с огромными глазами осунулось, даже толстый слой румян не мог скрыть бледность. Лицо молодой женщины едва выглядывало из-под низко опущенных полей конусообразной шляпы, а хрупкая фигурка буквально утопала в складках слишком широкого дождевого плаща. Покорившись участи наперсника, ставшей для него уже привычной, Джакомо спросил:
— Почему малоприятных?
Эльвира высморкалась, а потом ответила таким тоном, как будто продолжала прерванный на середине рассказ:
— Давай по порядку. Вчера утром, расставшись с тобой, я твердо намеревалась последовать твоим советам: вести себя благоразумно и ждать, когда он сам вспомнит обо мне. Но едва я вошла в свою квартиру, такую печальную, я поняла, что это сильнее меня.
— Почему печальную? — внезапно и как бы против воли спросил Джакомо.
— Потому что его там больше нет и, однако, все напоминает о нем; его вещи — пиджаки, книги, трубки — вызывают во мне такую печаль…
Джакомо заерзал на месте, кинул взгляд на телефон и только после этого сказал:
— Это ты печальна, а не квартира, не трубки, не пиджаки и не книги. Квартира — это помещение такого-то размера, с таким-то числом комнат, расположенных так-то и так-то; пиджаки — шерстяные либо из другой материи, различного цвета и покроя; трубки либо из дереза, либо из глины; книги имеют тот или иной формат и обложку. Что ж во всем этом может быть печального?
— А то, что его там больше нет.
— Но ведь это ты испытываешь грусть, а не пиджаки, не трубки и не книги. Всем этим предметам и дела нет до твоей грусти, как, впрочем, и тебе нет дела до них. Между тобой и ними нет никакой связи; вернее, есть только связь между владельцем и его вещью, но она мало чего стоит. Ты лучше поймешь мои слова, если вместо трубки или пиджака в комнате будет находиться собака, или кошка, или даже ребенок, то есть живое существо, которое ты, однако, не сможешь заразить своей печалью, как не можешь заразить ею, к примеру, меня. И тогда ты сама убедишься, до какой степени нелепы твои слова.
Эльвира с удивлением посмотрела на него и быстро сказала:
— Ну, как тебе угодно. Так или иначе, но это было сильнее меня, и я решила немедленно отыскать его, повидаться с ним. Села в машину и отправилась в Остию. Надо сказать, что день был необыкновенно мрачный и…
— Почему мрачный?
На ее лице снова отразилось изумление. И все же она сочла нужным пояснить:
— Шел проливной дождь, по небу ползли низкие темные тучи, дул ветер словом, все было мрачно.
— Постой, — прервал ее Джакомо. — Скажем лучше, что день был ненастный, ветреный, дождливый, что небо было затянуто тучами и видимость была плохая. Однако ничего мрачного в нем не было.
— Пусть будет по-твоему, — со вздохом проговорила молодая женщина, день, если тебе угодно, был ненастный. Когда я приехала в Остию, косые струи дождя били прямо в ветровое стекло машины, так что я почти ничего не видела. Ты представляешь себе Остию в это время года? Заброшенные купальни с пустыми и заколоченными кабинами тянутся вдоль хмурого сырого пляжа на фоне сумрачного моря. Унылые набережные, покрытые черным, ровным, мокрым асфальтом, где не видно ни единой души. Наводящие тоску аллеи: голые деревья, а возле них кучи опавших листьев, желтых и красных, глянцевых от дождя. А теперь представь себе посреди всего этого уныния меня, женщину, приехавшую искать человека, который ее не любит, и картина будет полная.
В эту минуту зазвонил телефон. Джакомо поднес трубку к уху и услышал грубый голос с интонациями провинциала: "Это молочная?" Он положил трубку на рычаг, а потом сказал:
— Неверная картина! Ты опять неправа. Остия — ни печальна, ни весела. Она такая, какой ей и надлежит быть: это курортный городок, где зимою остается мало народу. Что же касается купален, то они не заброшены, а только закрыты до весны, набережные не унылые, а всего лишь безлюдные, осыпавшиеся листья отнюдь не наводят тоску, просто они сперва высохли, а потом были омыты дождем. С другой стороны, все это — и самый городок, и купальни, и покрытые асфальтом набережные, и листья — живет своей жизнью, подчиняется своим законам, о которых ты понятия не имеешь и до которых тебе совершенно нет дела. Эльвира наконец вспылила:
— Но могу я узнать, что с тобой сегодня? Почему ты меня все время прерываешь?
— Потому что хочу утешить, — ответил Джакомо, — Согласись, ведь если ты скажешь, что купальни не заброшены, а всего лишь закрыты до весны, то тебе станет немного легче, не так ли?
— Я не нуждаюсь в утешении, а хочу только, чтобы ты меня выслушал. Так вот, я принялась искать его дом и в конце концов обнаружила в отдаленной части набережной мерзкий домишко.
— Почему мерзкий?
— Уф! Ну ладно, скажем, старый дом, который не ремонтировали по крайней мере лет сорок.
— Молодчина! Так и скажем.
— Так вот, поднимаюсь я, значит, по лестнице и стучусь в дверь к какой-то синьоре Цампикелли. Мне открывает старушка в очках, сухонькая и опрятная, и я с замиранием сердца спрашиваю, дома ли он. Она говорит, что его нет. Тогда я называю себя его сестрой и прошу разрешения подождать у него в комнате. Она ведет меня туда, и я с небрежным видом спрашиваю, бывает ли у него кто-нибудь. Старушка отвечает, что она никого не видала, но, по правде говоря, ее почти никогда нет дома, потому что у нее небольшая галантерейная торговля. Потом она уходит, а я оглядываюсь по сторонам. Представь себе голую, совершенно голую комнату…
Телефон коротко зазвонил; Джакомо протянул руку. Но тщетно — второго звонка не последовало.
— Видимо, ошибка, — сочувственно заметила Эльвира.
Он с раздражением сказал:
— Стало быть, без кальсон, без рубашки, без башмаков?
— Что за вздор ты несешь?
— Ты же сама сказала, что комната была голая, то есть неодетая, то есть без башмаков, без рубашки, без кальсон.
— Ладно, скажем, что в ней была лишь самая необходимая мебель: кровать, стол, комод. — Эльвира умолкла, но тут же вспыхнула: — Он сказал, что хочет пожить один, без меня, собраться с мыслями, все обдумать и решить. Но я убеждена, что он поехал в Остию для того, чтобы встретиться там с какой-то женщиной. И вот изволь, полюбуйся.
Она порылась в сумке и вытащила оттуда маленький белый сверток, который осторожно положила на стол.
— Что это?
— Отвратительный женский гребень.
Джакомо взял сверток и развернул его: там и в самом деле лежал очень светлый, с виду черепаховый, гребень; должно быть, он принадлежал блондинке.
— Почему отвратительный?
— Потому что его забыла какая-то девка.
— Я вижу всего лишь светлый гребень, — возразил Джакомо, — с виду черепаховый; без сомнения, его употребляли, и он малость потускнел, вот и все.
— Но ты-то что об этом думаешь? Тоже считаешь, что его потеряла какая-то женщина, с которой он проводит время в Остии?
— Где ты его нашла?
— Под кроватью.