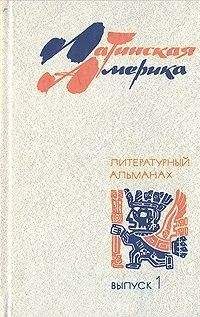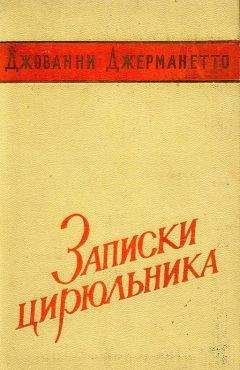— Каких таких дел?
— Ну… тех… Господину уполномоченному, конечно, известно… само собой разумеется… И… и кузнец Бельц этой ночью повесился, само собой разумеется…
Хозяин замолчал. Молчал и Хагештейн, онемев от изумления.
— Бургомистр тоже уже приходил… Хотел нанести визит господину уполномоченному, само собой разумеется…
— А женщины чего от меня хотят? — спросил Хагештейн.
— Полагаю, господин, уполномоченный, молить о снисхождении к их мужьям, само собой разумеется! Волнуются, прямо-таки вне себя!..
— Немедленно пришлите ко мне бургомистра! Немедленно! А… а женщины пусть ждут, понятно?
— Будет исполнено, само собой разумеется!
Хагештейн задумался. Возможно, арестованный русскими местный крестьянин, занимавшийся незаконной торговлей и спекуляцией, не единичный случай? Возможно, здесь были крупные злоупотребления? Но тогда тут хлопот не оберешься, а он-то рассчитывал, что ему удастся несколько деньков передохнуть.
Однако портить себе аппетит подобными размышлениями правительственный уполномоченный не желал.
Он еще вкушал свой отменнейший завтрак, когда в дверь постучали и на его «войдите» порог переступил на редкость громоздкий мужчина. Его мясистое лицо обросло щетиной, под глазами, будто спрятанными в темных глазницах, чернели круги. Человек остановился посреди комнаты, неловко кланяясь.
— Бургомистр? — резко спросил Хагештейн. — Входите, входите!.. Садитесь, пожалуйста… С добрым утром! — Хагештейн через стол протянул бургомистру руку, и тот схватил ее своей огромной лапищей. — Да что же вы стоите? Если не возражаете, я закончу свой завтрак. — Хагештейн приготовил себе бутерброд с колбасой. — А теперь рассказывайте, что творится в деревне… Но только правду… чистую правду!
— Конечно, конечно! — Бургомистр приготовился. — Рассказывать с самого начала, как все это получилось?..
— Упаси бог! — воскликнул Хагештейн. — Ничего лишнего. Только самую суть!
Ридель ерзал на своем стуле, прикидывал так и этак, то смотрел на уполномоченного, то переводил взгляд куда-то в пространство и, наконец, начал:
— Уле Брунс, сказать правду, из всех был самый вредный.
— Это тот, которого русские арестовали? — спросил Хагештейн, жуя свой бутерброд.
— Он самый! И будь его воля, все две тысячи были бы перебиты.
Хагештейн вытаращил глаза и едва не подавился куском. Проглотив его, он спросил:
— Какие две тысячи?
— Ну, женщины, которых доставили сюда!
Так! — произнес Хагештейн и уставился на бургомистра. — Так-так!.. А скольких убили?
— Семьдесят!
— Сколько? — крикнул Хагештейн.
— А может, и немного больше, — прошептал бургомистр и виновато опустил голову. Но, — продолжал он несколько живее, — большинство из них были уже заморены голодом, буквально заморены. И тех, что еще дышали, мы тоже, при всем желании, не могли бы спасти. Ведь нам самим нечего было есть… или почти нечего. Они вымели из наших домов все подчистую. Что мы могли сделать?
— Ужас! Ужас! — стонал Хагештейн.
— Еще какой ужас, господин уполномоченный! Непередаваемый! Женщины кричали и выли, как животные… А дети… Много дней спустя мы все еще находили трупы на железной дороге. Наверное, их выбрасывали из поезда на ходу. Форменные скелеты… Да, да, это было ужасно! Когда поезд остановился, многие из этих несчастных бежали и пытались спрятаться в наших домах, в амбарах… Всех их погнали назад, к поезду… Что нам было делать? Видели бы вы этих мучениц с лицами тифознобольных!
Бургомистр умолк.
Хагештейн тяжело дышал, не в силах вымолвить слово. Он подумал о письме, полученном вчера. Хозяин, значит, вовсе не сумасшедший. И о женщинах подумал, которые ждали его внизу.
Ридель, рассчитывавший, что посыплются вопросы, обвинения, упреки, настороженно следил за выражением лица правительственного уполномоченного, который молча уставился в одну точку. Это молчание было для него тягостнее любой вспышки гнева. В страхе он опять заерзал на своем стуле. И в конце концов не выдержал и заговорил вновь:
Но самое… самое страшное — это дети… Там были совсем еще малютки… Были уже и бездыханные, с голоду умерли. И когда… когда Уле Брунс во рву добивал умиравших лопатой… хотя надо отдать ему справедливость, он, должно быть, делал это из жалости…
Хагештейн медленно поднял голову; близорукими глазами, горевшими на пепельно-сером лице, он пристально смотрел на бургомистра.
— Бог свидетель, да-да, — уверял Ридель. — Ведь многих засыпали живьем… Я и сам… Ох, какое несчастье принес нам, всей нашей деревне, этот поезд… Никогда здесь не случалось ничего подобного… ну… никаких преступлений… Правду говорю, сущую правду… Но это, это всю нашу деревню загубило!
— Когда же это произошло? — спросил Хагештейн, словно очнувшись от тяжкого кошмара.
— Ну, тогда, два года назад, перед самым крахом!
— Два года? — с изумлением повторил Хагештейн. — И все это время… Почему же вы, бургомистр, так долго молчали?
— Все молчали… Боялись… Думали, забудется… Мы… мы сами хотели забыть.
— Ужасно! — стонал Хагештейн. — Невероятно! И вы могли молчать?
— Была война! Еще шла война! И…
— Кто были эти несчастные женщины?
— Большей частью, пожалуй, еврейки. Потом говорили, вроде бы они из Польши и с Украины.
— Еврейки! Заключенные, значит?
— Конечно, заключенные! Это же был эшелон с заключенными!
Ридель замолчал и пристально взглянул на уполномоченного. У него мелькнуло подозрение: неужели этот человек не знал о том, что здесь произошло? Бургомистр побледнел. Конечно же, не знал, не имел ни малейшего представления. Так какого же дьявола он сюда приехал? И Ридель спросил, что привело господина правительственного уполномоченного в Долльхаген.
— Я насчет поставок! — ответил Хагештейн.
Он встал и нервно зашагал по комнате. Что делать, спрашивал он себя. Надо прежде всего сообщить начальству. Пусть присылают человека для расследования этого страшного преступления, в его, Хагештейна, компетенцию такие дела не входят. Здесь, черт возьми, далеко не так приятно, как ему показалось сперва, нет, он здесь не задержится, в этой проклятой деревне!
Бургомистр Ридель сидел поникший, с опущенной головой, решив, что сам он больше ни слова не скажет. А вот если спросят, трудно будет отвертеться и промолчать.
Хагештейн спросил, почему повесился кузнец.
— Он там тоже руку приложил, — сквозь зубы процедил Ридель.
— Где это там?
— Возле амбара, возле Хефдерова амбара он убил одну из бежавщих женщин…
Хагештейн вплотную подошел к бургомистру.
— Кто еще из долльхагенцев был там?
— Кто?.. — Ридель презрительно опустил углы рта и нагло посмотрел на Хагештейна.
— Да, кто, я спрашиваю.
— Я обязан ответить?
— Если вы станете уклоняться, я это отмечу в своем докладе правительству.
Ридель помолчал. Потом перечислил:
— Брунс, Бёле, Хиннерк, Мартенс, Дирксен…
— И вы тоже?
— И я.
— Так-так!.. А женщины, что ждут внизу, это, наверно, их жены?
Ридель кивнул.
— Гм! Так-так! Ну вот, а теперь послушайте. Я пошлю в адрес правительства донесение, чтобы сюда была направлена следственная комиссия для выяснения всех обстоятельств дела. Это первое. Второе: позаботьтесь о том, чтобы сидящие внизу женщины убрались вон, и — немедленно! И третье: сейчас же представьте мне отчет о выполненных на сегодняшний день зернопоставках. Надеюсь, в Долльхагене они перевыполнены. Вот так. Пока все.
Ридель тяжело поднялся.
— Я могу идти?
— Идите.
И уполномоченный Хагештейн поступил так, как сказал. Он направил подробнейший доклад не только министру-президенту правительства земли Мекленбург, но и советскому окружному коменданту.
— А комендант, — продолжал свой рассказ Андреас, — вызвал меня к себе и спросил:
— У тебя тесть в Долльхагене?
Я ответил утвердительно.
— Отлично! Слушай же!
И он пересказал мне донесение Хагештейна. Это были только отрывочные фразы, такие, как «страшное преступление…», «более семидесяти женщин и детей убиты..», «замученные Голодом женщины похоронены заживо…», «кузнец Бельц прошлой ночью повесился…», «бургомистр во всем признался…».
Комендант, ошеломленный не меньше, чем я, спросил, знал ли я обо всем этом.
— Их зарыли под тремя дубами, — сказал я.
— Значит, ты знал? — повторил он изумленно.
Я ничего не знал, хотя и чувствовал, что какая-то зловещая тайна сковывает всю деревню. Чуялось мне, что здесь кроется какое-то преступление. Но ничего подобного я просто не мог бы себе представить. Сами понимаете, я тотчас же собрался в Долльхаген. Пенцлингер, мой теперешний тесть, сидел в большой комнате у окна. Он словно ждал меня и поднялся мне навстречу со словами: