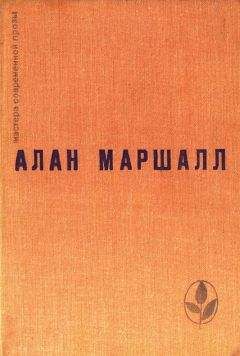И Теренс, и Сент-Джон почувствовали некоторое облегчение, когда доктор Лесаж ушел, оставив ясные указания и пообещав повторить визит через несколько часов; к сожалению, приободрившись, они стали говорить больше, чем обычно, а это привело к ссоре. Они повздорили из-за дороги, Портсмутской дороги. Сент-Джон сказал, что она покрыта щебнем там, где проходит мимо Хиндхеда, а Теренс знал так же точно, как свое имя, что в том месте она щебнем не покрыта. Во время спора они наговорили друг другу резкостей, и ужин закончился в молчании, не считая редких и приглушенных замечаний Ридли.
Когда стемнело и внесли лампы, Теренс уже был не в силах сдерживать свое раздражение. Сент-Джон отправился спать совершенно измученным, пожелав Теренсу спокойной ночи гораздо ласковее, чем обычно, — из-за ссоры, а Ридли удалился к своим книгам. Оставшись один, Теренс стал расхаживать по комнате. Он остановился у раскрытого окна.
В городе, лежавшем внизу, один за другим гасли огни, в саду было тихо и прохладно, поэтому Теренс вышел на террасу. Он стоял в темноте, видя в слабом сером свете лишь очертания деревьев, и тут его охватило желание убежать, покончить со всеми этими страданиями, забыть, что Рэчел больна. Он позволил себе погрузиться в забвение. Как будто ветер, яростно дувший без перерыва, вдруг затих, и тревоги, напряжение, страхи, мучившие его, исчезли. Он стоял в неподвижном воздухе, один на своем маленьком островке, неуязвимый для любой боли. Не имело значения, больна Рэчел или нет; не имело значения, врозь они или вместе; ничто не имело значения, ничто… На далекий берег набегали волны, ветви шевелил мягкий ветерок, окутывавший Теренса покоем и безмятежностью, тьмой и пустотой. Ясно, что мир борьбы, тревог и страхов — не настоящий мир, настоящий мир — этот, лежащий под поверхностью, поэтому, что бы ни случилось, бояться нечего. Тишина и покой будто обернули его тело прохладным покрывалом, утихомирили боль в каждом нерве, его душа опять расправилась и вернула свой привычный облик.
Но через некоторое время из дома донесся звук, который пробудил его, он бессознательно повернулся и пошел в гостиную. Вид освещенной комнаты так резко вернул все забытое, что Теренс замер на несколько мгновений не в силах пошевелиться. Он вспомнил все: который теперь час, даже до минут, в каком положении дела и что ожидается. Он проклинал себя за то, что хотя бы на секунду поверил в то, чего нет. Теперь пережить ночь будет еще труднее, чем всегда.
Не в силах оставаться в пустой гостиной, Теренс вышел и сел на ступеньку посередине лестницы в комнату Рэчел. Ему очень хотелось с кем-нибудь поговорить, но Хёрст спал, и Ридли тоже; из комнаты Рэчел не доносилось ни звука. Во всем доме было только слышно, как Чейли хлопочет на кухне. Наконец на лестнице над головой Теренса зашуршало, и сестра Макиннис вышла, застегивая манжеты: ей предстояло ночное дежурство. Теренс поднялся и остановил ее. Он редко говорил с ней, но она могла утвердить надежду, которая все еще жила в нем, — что Рэчел больна не тяжело. Он сообщил ей шепотом о приходе доктора Лесажа и что тот сказал.
— А теперь, сестра, — прошептал он, — пожалуйста, скажите ваше мнение. Вы считаете, что она очень тяжело больна? Ей грозит опасность?
— Доктор сказал… — начала она.
— Да-да, но мне нужно ваше мнение. Вы много видели подобных случаев?
— Я не могу сказать вам больше, чем доктор Лесаж, мистер Хьюит, — ответила она осторожно, как будто ее слова могли быть использованы против нее. — Случай серьезный, но вы можете быть вполне уверены, что мы делаем для мисс Винрэс все возможное. — В ее голосе слышалось профессиональное самодовольство. Но она, по-видимому, поняла, что не удовлетворила молодого человека, который все так же загораживал ей дорогу: она слегка отступила в сторону на ступеньке и посмотрела в окно, в котором были видны луна и море. — Если вы спрашиваете меня, — начала она странно-таинственным голосом, — то я вообще не люблю май.
— Май? — переспросил Теренс.
— Возможно, это и выдумки, но я не люблю, когда кто-то заболевает в мае, — продолжила она. — В мае все идет как-то не так. Вероятно, из-за луны. Говорят, она влияет на мозг, вы не слышали, сэр?
Он посмотрел на нее, но не смог ответить; под прямым взглядом она, как и все остальные, съежилась и показалась бесполезной, злонамеренной, недостойной доверия.
Она проскользнула мимо него и удалилась.
Он пошел в свою комнату, но не мог даже раздеться. Он долго ходил из стороны в сторону, а потом, высунувшись в окно, взирал на землю, которая лежала темной массой на фоне более светлой синевы неба. Со страхом и отвращением он смотрел на стройные черные кипарисы, которые еще можно было разглядеть в саду, и слушал незнакомые скрипучие звуки, свидетельствовавшие о том, что земля еще горячая. Все, что он видел и слышал, казалось зловещим, полным враждебности, дурных предзнаменований, и как будто принимало участие в заговоре против Теренса — вместе с местными жителями, сиделкой, врачом и страшной силой самой болезни. Они как будто объединили свои усилия, чтобы извлечь из него как можно больше страданий. Он не мог привыкнуть к своей боли — это было для него открытием. Раньше он не понимал, что под поверхностью любого существования, каждого дня человеческой жизни таится страдание; до поры до времени оно спит, но всегда готово пробудиться и поглотить свои жертвы; он хорошо представлял себе это страдание — как огонь, окружающий все сущее, лижущий его края, пожирающий людей. Впервые он осознал смысл слов, которые всегда казались ему пустыми: борьба за жизнь, тяготы жизни. Теперь он знал по себе, что жизнь тяжела и полна страданий. Он смотрел на разбросанные огни внизу и думал об Артуре и Сьюзен, об Эвелин и Перротте, о том, что они пускаются на риск в полном неведении и своим счастьем открывают свои души для такого же страдания. Как они осмеливаются любить друг друга, удивлялся он; как он сам осмеливался жить так, как жил раньше — стремительно и беззаботно, ни на чем подолгу не задерживаясь, любя Рэчел так, как он ее любил? Он больше никогда не почувствует себя в безопасности, никогда не поверит в прочность жизни, никогда не забудет, какие бездны страдания лежат под тонким счастьем, ощущением благополучия и надежности. Когда он оглядывался назад, ему казалось, что их счастье никогда не было так велико, как сейчас велика его боль. В их счастье всегда было что-то несовершенное, им всегда хотелось еще чего-то — недоступного для них. Счастье было отрывочным и неполным — потому что они были слишком молоды и еще мало понимали жизнь.
Отсветы его свечи дрожали на деревьях за окном; он смотрел на ветку, качавшуюся в темноте, и представлял весь внешний мир; он думал об огромной реке и огромном лесе, о широчайших просторах суши и водных равнинах, окутывавших землю; громадное небо круто поднималось от моря, а между небом и морем перетекали массы воздуха. Как необъятны и темны ночные пространства, открытые всем ветрам; странно подумать, как мало там человеческих поселений, как ничтожны пятнышки света, похожие на одиноких светляков, как разбросаны они среди первозданных складок земли. И в этих поселениях живут маленькие люди, крошечные мужчины и женщины. Если задуматься, это нелепо — сидеть здесь, в этой комнатенке, терзаться заботой и страдать. Разве что-то имеет значение? Рэчел, крошечное существо, лежит больная этажом ниже, а он сидит тут и страдает из-за нее. Близость их тел в громадной Вселенной, их малость казались ему нелепыми и смехотворными. Ничто не имеет значения, повторил он, у людей нет ни власти над чем-либо, ни надежды. Он облокотился на подоконник и думал, думал, почти утратив ощущение времени и места. И все-таки, хотя он был убежден, что все это нелепо, смехотворно, что люди малы и будущее их безнадежно, его не оставляло чувство, что эти мысли составляют часть жизни, которую они с Рэчел проживут вместе.
Возможно, благодаря смене врача на следующий день Рэчел выглядела значительно лучше. Хелен была по-прежнему очень бледна и измучена, но в ее взгляде как будто слегка рассеялись тучи, которые затягивали его все последнее время.
— Она заговорила со мной, — сама начала Хелен. — Она спросила, какой сегодня день недели, в полном сознании.
Затем вдруг, без всякого предвестья и видимой причины, в ее глазах появились слезы и потекли ровными струйками по щекам. Она плакала, почти не изменив выражения лица и не пытаясь сдержаться, будто не сознавала, что плачет. Несмотря на облегчение, которое принесли ее слова, ее вид привел Теренса в смятение: неужели все средства исчерпаны? Неужели власть этой болезни безгранична? Неужели перед ней все отступает? Хелен всегда казалась ему сильной и решительной, а теперь она — как ребенок. Он обнял ее, и она по-детски прижалась к нему и стала тихо плакать у него на плече. Затем она взяла себя в руки и вытерла слезы; глупо так себя вести, сказала она; и повторила: очень глупо, когда нет сомнений, что Рэчел стало лучше. Она попросила у Теренса прощения за такую неразумность. Она остановилась у двери, вернулась и, ничего не говоря, поцеловала его.