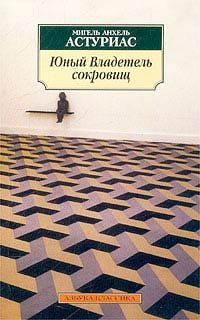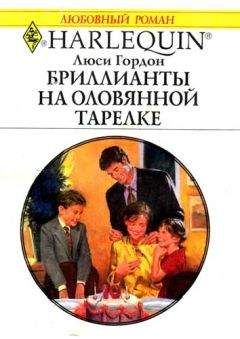Платком он потер за ушами, провел по затылку, его наполняло чувство такой же душевной благодарности к велосипеду, какую всадник испытывает к своему коню. Сегодня это чувство было вполне обоснованным: велосипед спас его от кто знает каких ушибов и ран, помог ускользнуть от дона Сиксто, который явно намеревался превратить его в пыль и прах. Вспомнив об этой встрече в предрассветных сумерках, дон Непо помянул врага отборнейшими словечками из своего обширного лексикона.
Он подошел к кровати, точнее, к накрытым покрывалом доскам на деревянных козлах. Из-под двери и из щелей под крышей проникал утренний свет — белый, жаркий, обжигающий, не такой ли огонь в печи для обжига превращает известняк в самую настоящую известь?.. Ложиться пока не хотелось. Глоточек бы! Вот-вот. Стаканчик… чего бы то ни было, только бы покрепче, чтобы встряхнуться, избавиться от неприятных мыслей… Решил прежде раздеться; обнаженный до пояса, заросший волосами, он походил на косматую обезьяну… Пошарил по углам… Ничего не нашлось. Бутылки из-под сладкого вина, из-под марочных ликеров, пивные — все пусто; из горлышек, еще так недавно источавших изумительный аромат шипучего напитка — дон Непо не ко рту их подносил, а к глазу, — неприятно пахло пробкой. Но еще отвратительнее был запах опьяневшей и уснувшей на дне бутылки пыли. Среди всякого хлама и пустых бутылок ему попалась пробка от шампанского… а бутылку внук приспособил для сиропа… Шампанского… шампанского было бы неплохо… Но нет ни капли… Его разбирал смех, и, чтобы не засмеяться, он стал кусать губы… Пусть смеется этот проклятый домовой, старик Эстрибо, который только и умеет, что совать ногу в чужое стремя. Пусть себе смеется, щелкая вставными челюстями… звякают они, как лошадиные подковы… плохо подогнанные подковы… Пробка от шампанского! Эх, найти бы глоточек… Но не шампанского… оно для праздников… лучше чистого агуардьенте[17] или чистейшего кушуша, чтобы драл в глотке, как наждачная бумага… Да, да, пусть все внутри продерет, чтобы забыть обо всем на свете…
И вдруг захотелось горячего. Горячего захотелось даже больше, чем горячительного. Горячего в глотку и желудок. Глупец! Раз велосипед тут, что ему мешает одеться и подкатить к Консунсино? Нет, нельзя. Он поклялся, что не переступит ее порог. Поклялся?.. Но если мучает жажда, клятвы ничего не стоят. Пусть глотке станет жарко от крепкого глотка — и не для того, чтобы забыться, как это обычно утверждают, а чтобы зажечься яростью, бешенством, гневом и пустить в ход язык. Ведь когда выскажешься, на душе становится легче, обиды забываются, уходит боль… А если по пути удастся встретить внука, можно и с ним перемолвиться…
Он натянул штаны стоя: значит, не так уж стар! Всунуть в штанину одну ногу, затем другую, натянуть. Рубашка, куртка, башмаки на босу ногу — и он готов. Нечего возиться, ведь и надо-то только съездить, пропустить глоток. Дон Непо поискал шляпу, вывел велосипед, вскочил на него… и через несколько минут этот проклятый велосипед сам остановился перед дверью кабачка Консунсино. Как там веселились! Хозяйка от души хохотала над рассказом старикашки-испанца.
Раз уж ему не удалось разделаться с врагом, старикашка решил объявить, что хотел лишь припугнуть его, заткнуть ему глотку, чтобы не злословил по поводу Кохубулей и «Тропикаль платанеры», которая столько добра сделала и делает стране.
Трусом дон Непо не был, но все же он не вошел в кабачок Консунсино — не хотел он видеть хихикающие физиономии, не хотел снова ввязываться в спор: игра не стоила свеч. Пусть кутят.
Он повернул домой. Слепило солнце. Мало облаков. Много солнца. Где-то далеко рычали грузовики, языками пламени локомотивы пожирали уголь, от взрывов динамита сотрясалась земля. Видно, близок конец света, и пусть лучше он дождется светопреставления на своей койке.
— Рохас-и-Контрерас заново родился!.. — провозгласил дон Сиксто, входя в кабачок вдовы Маркоса Консунсино.
— Это кто еще? — откликнулась хозяйка, не оглянувшись на испанца; она была целиком поглощена рюмками и с такой силой терла их, что они едва не плакали.
— Как кто? Рохас — твой сосед.
— Дон Непо?
— Он самый, хозяйка, он самый. Такова его полная фамилия… Все равно как меня называют Паскуальи-Эстрибо.
— Ну, вам-то не все равно. Ведь вам, дон Сиксто, это самое Эстрибо не по нутру.
— Гром и молния на ваши головы! Благородную фамилию моей матери, дарованную господом богом, превратить в какое-то прозвище!..
— Прозвище?
— Даже в мерзкую кличку! Чтоб ты язык проглотила…
— Ну а вам-то что? Не обращайте внимания…
— Эстрибо… Ты хочешь еще раз повторить, что я, дескать, залезаю ногой в чужое стремя?.. Не так ли?..
— Как вам угодно, дон Сиксто…
— Беда прямо, выпало мне на долю жить среди кафров…
— Эх, как вы отстали от жизни — в нашей столице уже нет монашеских кофрадий!
— Слава тебе господи, я и говорю не о кофрадиях, а о кафрах![18]
— Чтобы понять вас, дон Сиксто, надо сначала вызубрить Евангелие…
— Уж кому нужно Евангелие, так это Рохасу. Я насмерть его перепугал, прижал повозкой к стене, когда этот негодяй проезжал мимо, еще осмелился приветствовать меня, будто между нами ничего не произошло, прохвост этакий! Я не прикончил этого наглеца только потому, что час его еще не пробил!
— Мне одно известно, что и он и вы… простите… вы и он, — сначала надо упомянуть испанца, а затем уж индейца, — поклялись в мое заведение ни ногой…
— Что ж, пусть я буду клятвопреступником, уж очень ты мне по вкусу… аромат-то от тебя какой!..
— Не слишком ли многого вы захотели! — И, изменив тон, она продолжала: — Да разве кто-нибудь сможет спастись от вашего языка? Клянусь святым папским престолом, вы, дон Сиксто, такое скажете, что и самый последний погонщик ослов не придумает.
— Если меня заденут, я жалю, как скорпион. Но знаешь, сейчас я пришел неспроста, хотел кое-что рассказать тебе.
— Прежде скажите, что вам подать.
— Еще слишком рано.
— Как хотите, опохмелиться-то не вредно.
— От огорчения не опохмелишься. Как назло, столкнулся я с этим типом, твоим соседом.
— Чашка горячего кофе пошла бы вам на пользу.
— А если я выпил ее дома?
— От кофе нельзя отказываться… Если одни будут приходить сюда, чтобы поглазеть на меня, другие — излить свои горести, а третьи — чтобы понюхать меня, тогда мне придется закрыть свое заведение и начать отпускать грехи, и пусть все таращат на меня глаза да нюхают.
Вдова Маркоса Консунсино расхохоталась и ушла в кухню: из чашки, которую она приготовила для дона Сиксто, кофе расплескался на блюдце.
— Ты нынче в прекрасном настроении.
— Все, что вы здесь видите, создано благодаря моему хорошему настроению, все — и спиртное, и этот святой Доминго де Гусман, у которого, как видите, — она показала на выступ возле двери, — всегда и цветы, и лампадка.
— А святой-то наш, испанский.
— Святые принадлежат небу, а не какой-либо одной стране на земле. А как же кофе?.. Может, выпьете и потом расскажете о своих делах? У меня ведь кофе особенный: сама жарю зерно, так что оно не пережарено и не сырое. Сама и размалываю его, не по-аптекарски — в мелкий порошочек, но и не крупно, и сама варю кофе, не спуская глаз с кофейника.
— Подожди ты со своим кофе. Я пришел тебе рассказать…
— Ну, рассказывайте, только начинайте издалека, ведь издалека видно и быка.
— Я и хотел тебе рассказать…
— Хотели… хотели… Рассказывайте-ка скорее, не тяните! Что, язык проглотили?
— Проглотить не мудрено — вон у тебя какое декольте, не декольте, а целая витрина! Выставка что надо! Ну ладно, шутки в сторону. Я хотел рассказать, как чуть было не разделался с этим прохвостом, твоим соседом.
— Когда? Сегодня утром?
— Да, на пути сюда.
— Что ж, пусть на себя пеняет. Нечего было подливать масла в огонь. Вначале я думала, что вы не хотели спорить, но он так и рвался в бой.
Хозяйка принесла дымящийся кофе, и испанец припал прокуренными усами к чашке.
— Осторожней, кофе еще очень горячий! А что касается дона Непо, какое это имеет значение, что он мой сосед? Болтать-то все можно. А чем он вам так насолил? Сказал что-то по поводу тех, кто сменил свою фамилию, подделываясь под иностранцев. И еще он сказал, что этот самый мистер Кэйджебул родился от какой-то толстозадой индеанки! Лично я не знаю этого мистера, но сеньор Непо говорит, что рожа у него — ну точь-в-точь как у индейца, и как бы ни подделывался он под гринго, за янки ему все равно не сойти…
— Да что он знает, этот болван! Ведь есть индейцы краснокожие… А краснокожие — это особые индейцы, их снимают в кино, их не сравнить со здешними ублюдками. Они даже по-английски говорят.