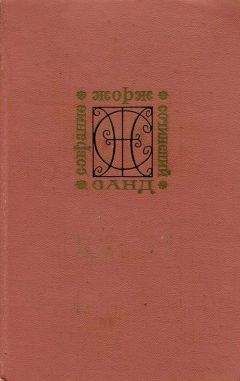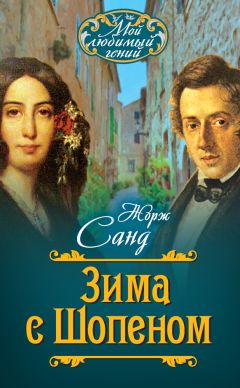— А как поступил Жак, когда у тебя водворилась твоя приятельница?
— Жак вернулся дня через два и не видал моей затворницы. Я вышла к нему на крыльцо и сказала, что, во избежание сплетен, ему не следует оставаться в доме, поскольку у меня остановилась приятельница, которую никто не должен видеть. Я посоветовала ему перебраться в Шангус и сразу отправила туда все его вещи, наказав не показываться ко мне раньше, чем через месяц, и хранить полную тайну. Жак дал слово не пытаться увидеть мою приятельницу и никому не говорить о ней и слово свое сдержал.
— Ты уверена?
— Да, дядя; я знаю, что брат — повеса, но лично мне упрекнуть его не в чем. Он прекрасно знает, что, если бы он стал наведываться сюда, его немедленно обвинили бы в ухаживаниях за моей приятельницей, а мне приписали бы очень подлую роль.
— Какую подлую роль, душа моя? Вот что больше всего интересует меня! Как бы ты оценила свое положение, если бы Жаку вздумалось приволокнуться за этой барышней?
— Такое ему и в голову прийти не может, он ее совсем не знает.
— Но предположим…
— Что он меня обманывает? Быть того не может! Это было бы ужасно! Ведь эта особа знатна и богата.
Эта партия не для Жака; и если бы он стал искать знакомства с нею, заставил бы ее себя полюбить, воспользовался бы ее присутствием у меня, чтобы скомпрометировать ее, меня ославили бы как сообщницу очень гнусной интриги или же как смешную и наивную дурочку. Разве не так, дядя?
— Душа моя! — ответил я, обнимая ее. — Никто и не обвиняет тебя в участии в какой-нибудь интриге, а если бы кому-нибудь пришло в голову распускать о тебе такую клевету, то ему пришлось бы иметь дело с твоим дядей и твоим братом.
— Но тетя! Она настроена против меня и, может быть, уже что-то обо мне прослышала?
— Ничего она о тебе не прослышала! Забудь, что она тебе сказала, она загладит свою нелепую выходку, потому что она в общем-то добрая и любит тебя.
— Нет, дядя, не любит! Я очень хорошо почувствовала это в последний раз, когда мы с нею виделись и когда она восстановила Анри против меня.
— А меня-то ты за кого считаешь? Я ведь тоже кое-что значу в своем доме и люблю тебя за четверых. Признайся только: ты все еще любишь Анри?
— Прежнего Анри — да; но я не знаю, каков он теперь, надо сперва хорошенько приглядеться к нему. У него изменилось и лицо, и разговоры, и манеры. Нужно время, чтобы снова сблизиться с ним, а сейчас я не могу ни принимать его у себя, ни бывать у вас…
— Хорошо, отложим на несколько недель твое близкое знакомство с ним, и ответь мне на последний вопрос. Тебе хорошо знакома особа, которую ты приютила у себя?
— Да, дядя.
— Ты любишь ее?
— Очень.
— И уважаешь?
— Уверена, что ее нельзя упрекнуть ни в чем серьезном.
— Она умна?
— Очень.
— Образованна?
— Как все воспитанницы монашек; но сейчас она много читает.
— Благоразумна?
— Гораздо благоразумнее той личности, которая сделала ее несчастной да и теперь преследует.
— Довольно! Пока я не хочу знать большего. Я не хочу видеться с ней, пока не буду иметь возможности сообщить ей что-нибудь важное.
— Ах, дядя! Понимаю! К вам обращались за советом, вам поручили…
— Да, со мной советовались, но я оставил за собой полную свободу действий. Ни за что на свете я не вмешался бы в дело, в котором могло бы быть предано гласности твое имя; но до огласки и суда не дойдет, будь спокойна, а если бы и дошло, то я отказался бы вести процесс против твоей приятельницы. Но поскольку вопрос стоит скорее о сделке, чем о тяжбе, я вправе подавать советы обеим сторонам. Скажи своей приятельнице, что она сделала большую глупость, убежав из монастыря чуть ли не накануне получения права выйти из него по собственной воле, и позволь заметить тебе, что ты, помогая ей, тоже совершила опрометчивый поступок, на который я не считал тебя способной.
— Нет, дядя, я просто допустила ошибку. Мари написала мне, что она уже совершеннолетняя, но что ей не предоставляют свободы и поэтому ей не остается ничего другого, как сбежать, и, кроме как ко мне, ей идти некуда. Что же мне оставалось делать? Ведь нельзя же было ей отказать? А приехав сюда, она призналась, что до совершеннолетия не хватает еще нескольких недель. Конечно, я поняла, что ее надо спрятать, и приняла всякие меры предосторожности. До сих пор мне удавалось все держать в тайне. Мари не выходит из сада и дома, а прислуга у меня верная и преданная.
— Вот что, душа моя, удвой-ка ты свои предосторожности, потому что Мари все еще под опекой и опекунша, если узнает, где она прячется, может вытребовать ее через полицию.
— Знаю, знаю, дядя, и потому сплю только одним глазком. Бедная Мари! Если за ней придет полиция, то я с ней не расстанусь, пусть забирают нас обеих!
— А так как ни Жак, ни я этого не потерпели бы, то все это кончилось бы скверно! Дружба вещь хорошая, но я считаю, что твоя приятельница ею злоупотребляет.
— Она так несчастна, дядя! Если бы вы знали… Если бы она могла поведать вам свою жизнь!
— Пока я не хочу и не могу ее видеть и слушать. Это бы только все испортило и помешало бы мне быть ей полезным. Итак, я ухожу, я ее не видел, ты ее не называла, я ничего не знаю. Поцелуй меня, а ей скажи, чтобы не оставляла зонтик в саду.
— Возьмите персики, дядя! Тетя их любит.
— Нет! Я не хочу говорить дома, что был у тебя, поэтому ничего не возьму. Позволь только сказать Анри, что ты не прочь возобновить знакомство с ним.
— Значит, вы ему скажете, что видели меня?
— Да, только ему.
— Ну так скажите ему… скажите… нет! Ничего не говорите! Сначала узнайте, что он против меня имеет. Пока он на меня сердит, я не хочу ни о чем думать.
Я и сам решил ничего не говорить Анри. Однако следовало его утешить, а также оправдать Мьет в его глазах. Как он ни старался принять гордый вид, я отлично видел, что он всем сердцем опечален, и боялся, как бы он своим поведением не расстроил окончательно брак, от которого, по-моему, зависело все счастье его жизни Я вернулся около трех часов и не застал никого дома Жена и сын отправились в замок Персмон, куда я и пошел их разыскивать.
«Забава» положительно нравилась Анри, и мать убеждала его устроить там премилую холостяцкую квартиру под тем предлогом, что ему необходимо иметь свой уголок для работы. Я не соглашался с ними. По моему разумению, нужно было оставить развалину развалиной и ограничиться ремонтом и отделкой той комнаты, в которой жил старый Корас де Персмон.
— Анри, — сказал я им, — женится через два-три года. Откуда нам знать, останется ли он жить с нами или переберется к жене, если он женится не на кузине Эмили. Тогда его жена может надумать жить в замке: в таком случае потребуются большие расходы в расчете на целое хозяйство и будущую семью. Что бы вы сейчас ни сделали, все станет ненужным и даже, пожалуй, помешает. Зачем же торопиться и сорить деньгами понапрасну?
Анри согласился со мной. Мать упрекнула его в по стоянкой уступчивости по отношению ко мне и в недостаточном сочувствии ее взглядам.
— Ведь ты клялся не жениться раньше тридцати… — сказала она ему.
Как только она ушла, вволю поворчав на нас, я поспешил сказать Анри:
— Я видел Мьет. Мои предположения верны: у нее прячется женщина.
— Правда? А зачем она ее прячет?
— Это монашенка из Риомского монастыря, которой доктор посоветовал подышать деревенским воздухом. Ты ведь знаешь, монашенки не должны видеть посторонних… Всякий раз, когда кто-нибудь приезжает, Мьет предупреждает ее, чтобы она не показывалась. Епископ позволил ей отлучиться из монастыря при обязательном условии, чтобы об этом никто не знал. Это тайна, смотри же, матери — ни слова. Мьет очень предана этой монашенке, заменившей ей в свое время мать, и теперь все время посвящает уходу за ней…
— Что она могла подумать обо мне? Ты сказал ей, в чем я ее подозревал?
— Я что, не в своем уме? Да она ни за что не простила бы тебе… Ну что, я вижу, ты готов всплакнуть. Плачь! Не стесняйся! Значит, Мьет тебе дороже, чем ты хотел показать…
— Ах, отец, хочется и плакать, и смеяться!
— Хочешь — смейся, хочешь — плачь, но расскажи, о чем ты думаешь.
— Что тебе сказать, когда я сам еще в себе не разобрался? Я знаю, что Мьет — ангел, святая, что в ней невинность и чистота небесных созданий соединены с твердой и смелой душою, готовой выдержать любые испытания. Быть любимым ею — честь и слава, а иметь ее женою — блаженство. Ты видишь, я знаю ей цену. Но я — стою ли я такой жены? Что я сделал, чтобы заслужить ее? Я опускался в бездны, о которых она и понятия не имеет. Сколько раз я прогонял прочь ее образ, мешавший мне в моих постыдных наслаждениях… И теперь я наконец вернулся к ней: грязный, изнуренный развратной жизнью, разочарованный. Ах, отец, жениться надо в восемнадцать лет! В горячке веры в свои силы, с гордостью святой невинности. Тогда я был бы достоин своей невесты, был бы уверен в ее уважении… Да, супружеская любовь — это суровая святыня, про которую можно сказать, что если она не все, то тогда она не стоит ничего. Но до сих пор я не понимал этого, и когда разнузданная чувственность увлекала меня, я думал, что к Эмили это не имеет никакого отношения. Теперь я убежден, что ошибался. Я не любил ее как должно, если мог забывать о ней. Я боялся ее, считал, в смысле нравственности, недосягаемой и видел в браке непомерно тяжелые оковы… Мое воображение рисовало существа, куда менее совершенные. Женщины, скрашивающие досуг студентов, губят их молодые души своей доступностью. Добиться их расположения ничего не стоит, как не стоит и беречь его… Продажные женщины, чтобы заставить платить себе подороже, умеют разжечь страсть притворным сопротивлением… Такие особенно опасны, они губят здоровье и извращают все понятия… Я сумел вовремя отдалиться от них, но все же не настолько быстро, чтобы они не успели осушить во мне источник святых и здоровых чувств. Ты давал мне слишком много денег. Я не погряз в пороке, как Жак, но потерял вкус к простоте и любовь к прямому и суровому пути: в моем саду любви побывало слишком много искусственных цветов. Византийская девственница со строгим челом кажется мне слишком мрачной и холодной для моего музея. У меня там целая коллекция женщин Гаварни, и для Эмили среди них нет места. Я теряюсь перед ней, не знаю, о чем говорить, как взглянуть. Позволь уж мне сказать всю правду, признаться в позорном чувстве. Вчера, вообразив ее изменницей, я сначала оцепенел, потом пришел в бешенство. Я не спал всю ночь, меня мучила ревность. Попадись она мне под руку, я бы убил ее! Стало быть, я чувствовал любовь к ней, думая, что она развратна… Сегодня оказалось, что я был глупцом и безумцем; ты показал мне образ Эмили в ореоле безупречности, я полон раскаяния и в то же время страха и нерешительности. Я не знаю, люблю ли я ее!