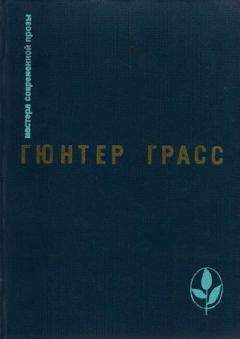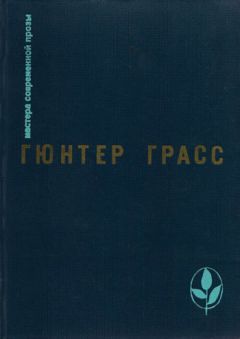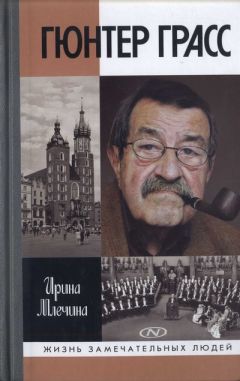Посреди тишины раздался голос Даха: пора и на покой, в объятья Морфея. Неприлизанные свидетельства Стофеля и особенно — Либушки, к которым их легкомысленно побудили, ясно указывают границу всякого смеха и ту плату, какую взимает излишество смеха, застревающего у всех комком в горле. Нет ничего страшнее, чем привычка души к кошмару. Да отпустит им это господь бог, да простит их по доброте своей.
Дах отослал их спать, как детей. Не дал и выпить по последней, на чем настаивали Лауремберг с Мошерошем. Попросил не шуметь более и не смеяться. И без того пошутили изрядно. Хорошо хоть набожный Гергардт загодя удалился в свою комнату. Вообще-то Рист — в проповедях он силен — должен был погасить разнуздавшееся словоблудие. Нет, нет, Дах никого не осуждает. В конце концов, он смеялся вместе со всеми. Но на сегодня довольно. Вот завтра, когда — к вящей пользе пишущих — они станут вновь читать свои манускрипты, он опять будет весел и приветлив со всеми.
Когда в доме все стихло — только хозяйка, призвав к себе в помощники Гельнгаузена, погромыхивала на кухне посудой, — Симон Дах еще раз прошел через сени и поднялся на чердак, где молодые спали на соломе. Там они и возлежали, а с ними служанки. Биркен спал, как младенец. Крепко, видимо, утомились. Только Грефлингер всполошился и стал было оправдываться. Дах, однако, знаком велел ему молчать и оставаться под одеялом. Пусть себе предаются забавам. Согрешили не здесь, а в малой зале. (И я смеялся вместе со всеми, вострил уши да подзадоривал весельчаков на скабрез.) Бросив последний взгляд на открывшуюся ему картину, Дах порадовался, что и Шефлер обрел себе подружку.
Л когда он уже собирался идти к себе — может быть, для того чтобы начать письмо, — то услыхал во дворе стук копыт, скрип колес, лай собак, потом голоса. Неужто мой Альберт? — подумал Дах с надеждой.
Приехал он не один. Кёнигсбергский соборный органист Генрих Альберт, составивший себе и за пределами Пруссии имя изданием своих песен в народном духе и периодически выходящих «Арий», привез с собой родственника, придворного капельмейстера саксонского курфюршерства Генриха Шюца, державшего как раз путь на Гамбург и далее на Глюккштадт, где он надеялся получить приглашение к датскому двору: при саксонском его ничто более не удерживало. Шестидесяти с небольшим лет, в возрасте, стало быть, Векерлина, но гораздо более подтянутый, чем примятый государственной службой шваб, Шюц оставлял впечатление ненавязчивой властности и строгого величия, природу коего никто (до конца даже и Альберт) не мог понять. Ничего величавого не было в его осанке и теперь, она выражала скорее озабоченность тем, что он, как ему казалось, помешал собранию, и все же его явление как-то возвышало встречу поэтов, хотя, с другой стороны, словно бы и снижало ее значение. К ним прибыл тот, кто никогда не прибивался к стаду.
Задним числом, конечно, все мы умнее — но и тогда все понимали: как ни безупречен был Шюц в вопросах веры и как ни предан своему князю, несмотря на возобновлявшиеся время от времени приглашения в Данию, до конца он служил лишь собственному призванию. Ни в чем, даже в работах второстепенных, не шел он навстречу обыденным пожеланиям среднего прихожанина-протестанта. Своему курфюрсту и датскому Кристинну он поставлял лишь самую малость музыкально-придворных увеселений. Постоянно в деле — которое и было для него средоточием жизни, — он был чужд любой суетности. Ежели издатели его сочинений настаивали иной раз на усовершенствованиях, облегчавших их церковное употребление, — например, на цифирных обозначениях при генерал-басе, — то Шюц неукоснительно оговаривал в предварении, что сожалеет о том, что они были сделаны, и призывал исполнителей пореже обращаться к этим «костылям».
Никто не придавал такого значения слову, как он, никто настолько не подчинял музыку слову, никто не тщился так истолковать слово, оживить, выявить во всей его глубине, широте и высоте и ради этого так нырять вглубь, раздаваться вширь, взмывать ввысь. Но никто поэтому и не был так строг и придирчив к слову, как он. державшийся по преимуществу традиционной латинской литургии или лютеровского перевода Библии. От сотрудничества с современными немецкими поэтами в главном своем деле, в духовной музыке, он уклонялся — если исключить псалмы Бекера да несколько ранних текстов Опица, которые он положил на музыку. Немецкие поэты говорили его сердцу немного, как ни осаждал он нас своими просьбами писать для него. Поэтому-то Симон Дах прежде испугался, а лишь потом обрадовался, когда услыхал имя гостя.
Они постояли сколько-то времени во дворе, обмениваясь любезностями. Шюц все извинялся, что явился непрошено. Говорил будто в оправдание, что давно знаком с некоторыми из присутствующих (с Бухнером, Ристом, Лаурембергом). Дах со своей стороны расточал заверения в оказанной чести. Гельнгаузенов имперский караул держался с факелами в отдалении, как и подобает при встрече князя, а в том, что это прибыл князь, мушкетеры не сомневались, даром что на нем было вполне бюргерское дорожное платье, а вся поклажа исчерпывалась двумя рундуками. (Другой гость сошел у них за княжеского камергера.)
Они примчались сначала в Эзеде, откуда их направили в Тельгте. Лошадей им поменяли сразу же, поскольку у Шюца была охранная грамота князя. С детской гордостью предъявил он бумагу — точно удостоверение его значительности, рассказывая при этом, что в дороге обошлось без приключений. При полной луне в долине было светло как днем. Кругом было пусто, все как вымерло. Они больше устали, чем проголодались. Не найдется кровати, он ляжет на лавке у печки. Уж он знает, каков трактирный обиход. Отец его в Вайсенфельсе на Заале сам держал постоялый двор — «Шюценхоф»: народу всегда была уйма.
Даху и Альберту лишь с трудом удалось уговорить придворного капельмейстера занять комнату Даха. Прибежала (в сопровождении Гельнгаузена) хозяйка; услыхав имя гостя, защебетала любезности, приветствовала его итальянской тирадой, называя Maestro Saggittario[4]. Еще более всех поразило — а Шюца даже напугало, — когда Гельнгаузен, уже с готовностью занявший позицию меж рундуками позднего гостя, запел вдруг приятным тенором начало первого мотета из «Cantiones sacrae»[5] — вещи скорее общехристианской, а потому распространенной и в католических пределах: «О bone, о dulcis, о benigne Jesu…»[6]
Объясняясь, Стофель поведал о том, что пел в хоре еще мальчиком, погонщиком в Брайзахе, когда город осадили веймарцы и пение заглушало голод. Затем он подхватил багаж и увлек за собой Шюца, а с ним и всех остальных; шествие замыкала хозяйка, в руках у нее был кувшин с сидром — гость просил подать его в комнату с куском черного хлеба.
Потом Либушка готовила в малой зале постели для Даха и Альберта; занять ее каморку рядом с кухней они отказались. При этом она без умолку тараторила, обращаясь по преимуществу к Альберту: все больше насчет того, как трудно порядочной женщине сохранить честь в эдакое время. Какой красоткой она слыла когда-то и какие неприятные обстоятельства научили ее уму-разуму… Наконец Стофель вытолкал ее за дверь. Пару они с Кураж составляли уморительную, и на какой-то замазке связь их держалась.
Однако едва они ушли, как друзьям вновь помешали. В боковом открытом окне залы показалось искаженное ужасом лицо Цезена. Он с реки. По ней плывут трупы. Сначала он увидел только два. Связанные вместе, они напомнили ему его Маркхольда и Розамунду. Потом вниз по реке поплыли еще трупы, их становилось все больше. Луна освещала мертвые тела. Нет слов для такого избытка смерти. Дурные звезды стоят над этим домом. Мир никогда не наступит. Ибо язык не содержится в чистоте. Ибо искалеченные слова превратились в раздутые трупы. Он опишет все, что видел. Точно. Немедленно. Найдет небывалые звуки.
Дах закрыл окно. Лишь теперь, после того как их сначала напугал, а потом позабавил спятивший Цезен, друзья остались одни. Они крепко обнялись — похлопывая друг друга по спине, отпуская радостные приветствия, плохо ложившиеся в какой-либо стихотворный размер. И хотя перед тем Дах отослал всех спать, не выдав на ночь никакого питья, он теперь наполнил Альберту и себе по полной кружке темного пива. Чокались они долго.
Потом, когда оба улеглись, соборный органист рассказывал в темноте, какого труда стоило затащить сюда Шюца. Его недоверие к поэтам и их многословию за последние годы только увеличилось. После того как Рист подвел его. ничего не написав, а либретто Лауремберга не имели успеха при датском дворе, он попытался приспособить к делу один из зингшпилей Шоттеля. Но от приторности этого автора его до сих пор мутит. Завернуть все же в Тельгте его столь прославленного родича побудили вовсе не родственные чувства, а единственно надежда, что Грифиус станет читать свои драмы и что-нибудь да отыщется, годное для оперы. Будем надеяться, что какой-либо текст в самом деле удостоится его милости.