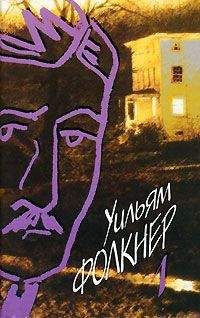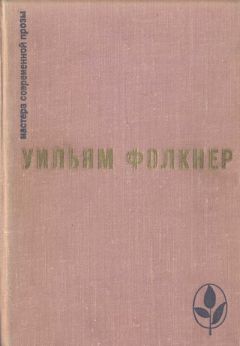– Ступай наверх и принеси полковнику ночные туфли, – приказала она.
Когда она снова повернулась, ни Баярда, ни бочонка уже не было видно, но зато из открытой двери кладовой торчал любопытный зад молодого пса и его барометрический хвост, на котором, словно перья, топорщились шерстинки; затем Баярд ногой вытолкал собаку из кладовой, вышел оттуда сам и запер за собою дверь.
– Саймон уже дома? – спросил он.
– Сейчас придет, – отвечала она, – я его только что позвала. Садись и сними эти мокрые сапоги.
В эту минуту Саймон вошел в комнату с туфлями, Баярд послушно уселся, а Саймон встал на колени и под строгим взглядом мисс Дженни стащил с него сапоги.
– А носки у него сухие? – спросила она.
– Да, мэм, они не мокрые, – отвечал Саймон, но мисс Дженни наклонилась и пощупала их сама.
– Это еще что? – с досадой проворчал Баярд, но мисс Дженни, не обращая на него внимания, бесцеремонно провела рукой по обеим его ступням.
– Досадное упущение с его стороны, – проговорила она сквозь уходящую в бесконечную высь стену его глухоты. – А тут еще ты со своими дурацкими баснями явился.
– Его путевой обходчик видел, – упрямо повторил Саймон, надевая Баярду туфли. – Я же не говорил, что я его видел. – Он встал и вытер руки о штаны.
Баярд с шумом влез в туфли.
– Принеси все для пунша, Саймон, – сказал он, после чего нарочито небрежным тоном обратился к своей тетке: – Саймон говорит, что Баярд сегодня днем сошел с поезда.
Но мисс Дженни уже опять напустилась на Саймона.
– Вернись, возьми сапоги и поставь их за печку, – сказала она. Саймон повиновался, боком подошел к камину и сгреб в охапку сапоги. – И уведи ты этих псов. Слава Богу, ему еще не пришло в голову притащить сюда свою лошадь.
Старшая собака, за которой с застенчивой готовностью следовала младшая, тотчас встала, подошла к Саймону и покинула комнату с тем же напускным старанием, с каким и Баярд и Саймон выполняли энергичные приказы не терпящей противоречия мисс Дженни.
– Саймон говорит… – снова начал Баярд.
– Саймон говорит вздор! – отрезала она. – Неужели ты, прожив шестьдесят лет с Саймоном, до сих пор не усвоил, что он принимает все за чистую монету?
С этими словами мисс Дженни вышла из комнаты и вслед за Саймоном отправилась на кухню, где его высокая желтокожая дочь месила тесто, и пока Саймон наливал в стеклянный кувшин свежую воду, клал туда ломтики лимона, ставил на поднос кувшин, два высоких бокала и сахарницу, она стояла в дверях и бранила его на чем свет стоит, отчего остатки его седых волос скручивались в еще более тугие завитки. Мисс Дженни всегда отличалась блестящим красноречием, а в гневе без всяких усилий достигала немыслимых высот. Сам Демосфен позавидовал бы энергичной ясности и живописной простоте ее выражений, не говоря уже о смелых метафорах, которые понимали даже мулы и смысл которых мгновенно доходил до сознания самых безнадежных тупиц, и под этим неодолимым натиском голова Саймона склонялась все ниже и ниже, искусно разыгранная озабоченность слетала с него как перья с линяющей птицы, пока он наконец не схватил поднос и, согнувшись, не выскочил из кухни. Но голос мисс Дженни, легко и стремительно понижаясь, несся ему вслед, включая в свой необъятный диапазон угрозу и рекомендации по части будущего поведения Саймона, Элноры и всех их потомков – как нынешних, так и будущих – на несколько лет вперед.
– А в следующий раз, – закончила она, – когда ты, путевой обходчик, кондуктор или рассыльный увидите или услышите что-нибудь, что, по вашему мнению, может представлять интерес для полковника, сперва сообщите это мне, а я уж сама разберусь, говорить ему об этом или нет.
Еще раз бросив многозначительный взгляд на Элнору, она воротилась в кабинет, где ее племянник, налив воду в бокалы, старательно размешивал в них сахар.
Саймон в белой куртке исполнял обязанности дворецкого. Он как бы играл сразу на двух духовых инструментах, только инструменты эти были не медные, а серебряные – из такого нежного и мягкого серебра, что некоторые ложки, в тех местах, за которые их держали пальцы представителей многих поколений, стерлись и истончились, как бумага; из серебра, которое дед Саймона Джоби некогда зарыл под пропахшей аммиаком конюшней, причем трехлетний Саймон в одной грязной рубашонке с серьезным любопытством ребенка наблюдал за этой странною игрой.
Однако эманация основной профессии Саймона сопровождала его постоянно, даже когда он отправлялся в церковь, умытый и принаряженный, хотя и несколько неуклюжий в старом двубортном сюртуке Баярда; и каждый раз, как он входил в столовую с подносом, принимал небрежные позы возле буфета, отвечал на отрывистые вопросы мисс Дженни или продолжал начатый еще до обеда бессвязный разговор с Баярдом, он распространял, а ретируясь, оставлял за собою смутное воспоминание о конюшне. Но в этот вечер Саймон, поставив принесенные блюда на стол, поспешил убраться на кухню – он донял, что опять наговорил лишнего.
На этот раз разговором овладела мисс Дженни. Накинув белую вязаную шаль для защиты от вечерней прохлады, она погрузила племянника в море пошлости – ничтожных дел, мелких суждений и сплетен, что было ей совершенно не свойственно. Она обладала способностью выражать свои взгляды в лаконичной, беспощадно юмористической форме и редко снисходила до сплетен. Баярд между тем укрылся в обнесенной стенами башне своей глухоты, убрал подъемный мост и запер крепостные ворота – вы никогда не могли понять, слышит он вас или нет, а его материальная оболочка тем временем невозмутимо поглощала ужин. Вскоре они кончили есть, и мисс Дженни позвонила в маленький серебряный колокольчик, лежавший возле нее на столе, и тогда Саймон, открыв дверь буфетной, снова принял на себя холодный залп ее неудовольствия, после чего затворил дверь и скрывался за нею до тех пор, пока они не ушли из комнаты.
Баярд отправился в кабинет и закурил там сигару; мисс Дженни последовала за ним, придвинула кресло к столу под лампой и раскрыла ежедневную мемфисскую газету. Ее занимали только самые живописные проявления человеческой природы, и потому она, предпочитая романтические происшествия самым достоверным, но бесцветным фактам, выписывала более сенсационный вечерний выпуск, хотя он приходил днем позже утреннего, и с холодной жадностью упивалась отчетами об отравлениях, убийствах, насилиях и прелюбодеяниях – в недалеком будущем американская жизнь предоставит ей развлечение в виде бутлеггерских войн[14], но пока это время еще не настало. Племянник ее сидел на другом берегу пруда, разлитого по столу мягким светом лампы, упершись ногами в угол каминной решетки, с которой подошвы его сапог, а до него подошвы сапог Джона Сарториса давно уже стерли краску, и попыхивал сигарой. Он не читал, и мисс Дженни время от времени взглядывала на него поверх очков через край газеты. Потом она снова погружалась в чтение, и в комнате не было слышно ни звука, лишь время от времени шелестели газетные страницы.
Вскоре Баярд характерным для него резким движением поднялся и, сопровождаемый взглядом мисс Дженни, пересек комнату, вышел и захлопнул за собою дверь. Она еще некоторое время продолжала читать, но мысли ее следовали за тяжелым топотом его ног по прихожей, а когда шаги стихли, она встала, отложила газету и пошла за племянником к парадному крыльцу.
Из-за темной гряды холмов на востоке уже поднялась луна; бесстрастно освещая долину, она словно детский воздушный шар висела над дубами и белыми акациями, росшими вдоль аллеи. Старый Баярд сидел в лунном свете, положив ноги на перила веранды. Его сигара временами вспыхивала; в траве возле самого дома пронзительно и монотонно стрекотали кузнечики, а из-за деревьев, словно волшебный серебряный звон беспрерывно лопающихся на поверхности пузырьков, слышался писк молодых лягушат. Из сада лился тонкий аромат белых акаций, неуловимый, словно тающие в воздухе кольца табачного дыма, а откуда-то из темной прихожей в тягостной бессловесной печали плыл низкий голос Элноры.
Мисс Дженни пошарила в темноте у дверей и возле зиявшего бледным пятном зеркала сняла с крючка шляпу Баярда, принесла ее на веранду и сунула ему в руку.
– Не сиди здесь долго. Сейчас еще не лето.
Он пробурчал что-то невнятное, но шляпу надел, а мисс Дженни, повернувшись, пошла обратно, дочитала газету, сложила и оставила ее на столе. Затем выключила лампу и по темной лестнице поднялась к себе. Оттуда, с высоты второго этажа, было видно, что луна стоит над деревьями, а свет ее широкими серебряными полосами вливается в комнату сквозь выходящие на восток окна.
Не зажигая электричества, она подошла к южной стене, открыла окно, и в комнату тотчас ворвались голоса кузнечиков и лягушек, а откуда-то издали донеслось пенье пересмешника. Магнолия под окном и жимолость, густо разросшаяся вдоль забора, еще не зацветали, и мисс Дженни могла любоваться дремавшими под луною бронзовыми кустами гардении, чубушника и чашецветника, которые вот-вот должны были распуститься, и другими растениями, вывезенными из садов далекой Каролины, которые она знавала в юности.