Ознакомительная версия.
Тогда с бруствера вскакивает Попов:
— Кто позволял? Товарищ Задорожный! Почему без разрешения?
— Ерунда, чего там! Пять минут, — слышится издалека.
Попов, видно не зная, что предпринять, неподвижно стоит на бруствере. Поодаль, за кукурузными кучками, слышится сдержанный смех Люси.
Этот смех острой завистью пронизывает меня. Я понимаю, что Задорожный плохой солдат, что нельзя так, как он, не слушаться командиров, хотя бы и временных, таких, как Попов. Но мне начинает казаться, что это непослушание делает его более сильным, самостоятельным и смелым, чем я. И мне невольно хочется стать непослушным, как Лешка, обрести его независимость, его, пусть даже и не всегда разумную, решительность. Я подозреваю в Лешке какую-то властную силу над женщинами, и теперь, думается мне, все, о чем рассказывал Лешка, так именно и было. И еще кажется, что он нравится Люсе, нравится именно тем, чего не хватает мне или Кривенку, — грубоватой самоуверенностью и, конечно, мужской силой. И я завидую ему. Я знаю Лешкину жизнь (он никогда ничего не таит от других), знаю, что он бывший футболист, человек заносчивый и не совсем честный. Ему всегда по-своему везло в жизни, может, и не очень, но во всяком случае, больше, чем мне или Кривенку. Беды обычно обходили его стороной. Однажды, рассказывал он, еще до войны в Новороссийске компания таких же, как он, сорванцов с цементного завода поймала моряка и здорово избила его широким флотским ремнем с бляхой. Бил Лешка, но когда моряки в отместку «сцапали» их в парке, то больше других влетело не Лешке, а его дружку Федьке.
Везло ему и потом, на войне. Попав под Воронежем на фронт, он, однако, не дошел до передовой, а каким-то случаем оказался в охране штабного генерала. Генерал не был строевым командиром и не очень любил разъезжать по передовой, поэтому Задорожному вместе с пятью остальными, находившимися при нем, — двумя-ординарцами, шофером, поваром и парикмахером, оставалось думать только о бытовых удобствах и безопасности начальника. Это везение продолжалось до того несчастливого утра, когда генеральская машина случайно наскочила на противотанковую мину, оставленную немцами на обочине дороги. Одних похоронили, генерала отправили в Москву, а контуженный Лешка, прослонявшись недели две в тыловом госпитале, попал в стрелковый полк. Тут он для солидности назвался танкистом, но, поскольку танков в полку не было, его послали в противотанковую батарею. Чтобы таскать пушки, нужна сила, а Задорожный поднакопил ее на генеральских харчах. Сначала он немного задавался, не очень слушался Желтых, вовсе не признавал Попова, любил вспоминать: «мы с генералом ехали» или «мы с генералом беседовали», но мало-помалу обломался, стал тише. Тем более что Желтых не очень обращал внимания на его «генеральское» прошлое.
Молчаливая и тревожная ночь плывет над затаившейся, притихшей землей. Время, видно, уже переступило за полночь, ковш Большой Медведицы повернулся на хвост, луна забралась в самую высь и светит в полную силу. Под кукурузными кучками тихо лежат четкие тени. Порой кажется, будто что-то двигается там от кучки к кучке, взгляд невольно напрягается, но я знаю: сколько ни всматривайся, ничего не увидишь. Немцы молчат. Темные горбатые холмы, словно хребтовины распростертых на земле чудовищ, едва сереют на горизонте. Моторный гул незаметно утихает или, может, отдаляется, и ночную тишину нарушают лишь редкие случайные звуки.
Попов идет в окоп и, стуча там, что-то ищет. Лукьянов молчит с того времени, как ему нагрубил Лешка, и неподвижно сидит на бруствере.
Я не спеша хожу возле огневой и думаю о Люсе.
Вот она пошла с Лешкой, ей, видно, хорошо и весело с ним, иначе бы не смеялась она так озорно и счастливо, и этот ее смех непонятной болью вонзается в мою душу. Но я знаю: Люся очень хорошая девушка. Она так внимательна, деликатна и ласкова со всеми — и знакомыми и незнакомыми, молодыми и старыми, что от всего этого заметно добреют наши давно огрубевшие души. И хотя она одинакова со всеми, но теплота ее ясных глаз как-то вселяет в меня надежду, что не очень уж плох и я, замковый Лозняк, что она мой друг, и для чего-то большего между нами недостает разве Что пустяка, не высказанного еще. Все время кажется мне, что стоит только найти это невысказанное, определить его нужным словом, как все встанет на свое место. Но у меня не хватает решимости. И еще, трезво поразмыслив, я понимаю, что все же мало у меня того, что пришлось бы по душе этой девушке. Вот если б я был такой, как Задорожный…
Так я рассуждаю в тиши, и вдруг раскатистая очередь где-то в первой траншее пробуждает ночь; Стремительный пучок искристых трассеров резко мелькает над нейтралкой возле подбитого танка; несколько пуль рикошетом отскакивают от земли и молниями разлетаются в стороны. Над передовой взмывает ракета, доносится короткий выстрел, и в ослепительном свете возникают контуры брустверов, остова танка… Мне не видно отсюда, что там заметили пехотинцы, но их пулеметы начинают бить в ночь, к ним присоединяются автоматы, редко и солидно бахают винтовки.
Я подбегаю к Лукьянову. Из окопа выскакивает Попов, он насторожен, но, кажется, спокоен. Над передовой снова загораются две ракеты. Трассеры веером снуют над нейтральной полосой, скрещиваются и разлетаются в стороны. Немцы молчат, не отзываются ни единым выстрелом, и это еще более непонятно и странно.
— Надо идти в окоп. Не надо сидеть тут, — говорит Попов.
Мы с Лукьяновым неохотно подчиняемся. В окопе я задерживаюсь на ступеньках. Попов становится к оружию, мы слушаем, смотрим и ждем.
— Может, прикрывают разведку, — говорит Лукьянов. Его голос слегка дрожит, как при ознобе, хотя ночь теплая и тихая.
— Если бы своя разведка, не пускали бы ракет, — возражаю я.
Попов молчит. Он идет в угол, где лежат наши снаряды, вынимает нижний ящик и ставит ближе к станине. Я знаю, это он подготовил картечь.
Но переполох на передовой через некоторое время утихает, доносится чей-то голос, видно команда, и умолкают последние выстрелы. Ракеты еще взлетают в небо, и их далекий свет тусклыми отблесками блуждает по серому пространству разрытого поля.
— Поганый сволочь! — ругается Попов. — Гитлер в разведку ходил.
Мы втроем сходимся на площадке возле орудия. Лукьянов садится на станину, а мы с Поповым пристально всматриваемся в ночь.
Тут нас и застают Желтых и Кривенок.
Наш командир прибегает на огневую запыхавшийся и, кажется, расстроенный. Из первых же его слов мы чувствуем, что произошло нечто недоброе. Еще не добежав до орудия, он раздраженно и сипло кричит:
— Ну что! Где лопаты? Лозняк, ты? Давай сюда все лопаты, копать будем. Живо! Слышите?
Схватив со ступенек первую попавшуюся лопату, командир в стороне от орудия начинает раскапывать землю.
— Лукьянов! Меряй отсюда восемь шагов и начинай. Где Задорожный?
— Задорожный пошел с Луся. Приказ не выполнял.
— Как пошел? Куда пошел? Ну, пусть придет! Разгильдяй! Бродяга! — командир сердито сопит, разравнивая бруствер. — Лозняк! — снова зовет он меня. — Убери кукурузу. В сторону ее.
— А что, все же стрелять будем? — с затаенной тревогой спрашивает Лукьянов.
Желтых удивляется:
— А то как же? Слышали, что делается? Немец проходы разминирует. Понял?
Лукьянов настороженно выпрямляется, притихает Попов. Удивленные, мы смотрим на нашею командира и ждем объяснений.
— Ну что рты разинули? — прикрикивает Желтых и перестает копать. — Непонятно? Завтра поймете. Слышали — гудело?
— Слышали, — говорю я.
— Ну вот! Зря не гудит — запомните! — бросает Желтых и снова с яростью вгоняет в землю лопату. Он спешит прокопать широкую траншею — укрытие для пушки.
На какое-то время мы замираем в предчувствии беды, которая подступает все ближе. Но переживать некогда. Попов первый молча берет лопату. Беремся за дело и мы.
Дружно налегая на лопаты, мы во все стороны выбрасываем из ямы землю, времени до утра осталось мало, а выкопать надо много. Теперь мы понимаем, что завтра достанется всем: и пехоте, и гаубичникам, и нам, — делить тут нечего. — Значит, так! — сопя и откашливаясь, говорит командир. Он втыкает в бруствер лопату, снимает сумку, распоясывается я откидывает свое снаряжение дальше, к орудию. — Значит, так. Завтра перво-наперво на рассвете уничтожаем пулемет. Во что бы то ни стало! Командир полка приказал. Так что надо постараться.
Желтых плюет на ладони и снова яростно берется за работу. Рядом копает Лукьянов. Он как-то бережно ковыряет землю лопатой, подгребает и не спеша выносит на бруствер. После нескольких бросков земли лопатой отдыхает. Такая работа когда-то раздражала нас, Задорожный даже ругался, но потом мы присмотрелись и поняли, что этот слабосильный, болезненный человек иначе не может. Теперь мы привыкли к нему и не обращаем на это внимания. Попов, как всегда, делает самое сложное — ровняет скос в окопе, по которому завтра придется закатывать орудие в укрытие. Он делает это старательно и хлопотливо, все копается и копается, согнувшись в темноте. Кривенок бросает землю рывками: то очень часто, с тупой яростью, то медленно, порой останавливается, вроде задумывается, и все оглядывается назад, в наш тыл. Я догадываюсь, что беспокоит его, но молчу. Но вот Кривенок выпрямляется и поворачивается ко мне:
Ознакомительная версия.
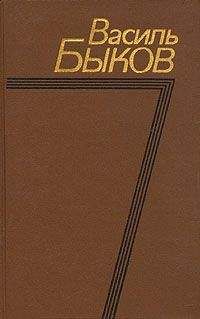

![Алексей Быков - Тень [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)
