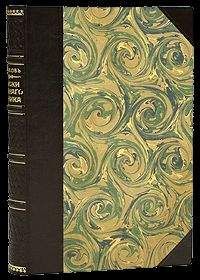Я сел на стул, мне надоело ходить по комнате. Но сидел я не как всегда, что-то удерживало меня от обычной ленивой позы. Я сидел не развалясь, не откинувшись на спинку, — я сидел чинно, как в гостях. Но в голову мне не шли чинные, торжественные, подобающие случаю мысли. Я глядел на аккуратно заправленную постель Гришки и вспоминал, что у него был один недостаток: он храпел во сне. Когда он начинал слишком громко храпеть, кто-нибудь из нас бросал ботинок в спинку его кровати. Тогда Гришка перевертывался на другой бок, и храп на время умолкал. Потом он снова заводил свою песню, и в спинку кровати его — к ногам или к изголовью — летел другой ботинок. К утру обычно вся наша обувь валялась около Гришкиной постели. И когда Гришка объявил нам, что идет добровольцем на финскую, Володька сказал: «Ну и катись! По крайней мере хоть храпа твоего не будем слышать!» Володька был обижен, что Гришка принял это решение без его совета.
— А тебе не страшно идти на войну? — спросил я тогда Гришку. — Только по-честному. Мы же здесь все свои.
— Черт его знает, — ответил Гришка. — Не то чтобы страшно, а как-то зябко. Будто недоспал.
— Раз зябко — выпить надо, — заявил Костя. — Ведь у нас дровяные деньги еще остались. Пусть Чухна сбегает, он сегодня дежурный. Ты отмерь ему сумму.
Гришка был капитаном комнаты и главным казначеем. Он сразу же дал мне денег, я схватил сеточку и побежал в подшефный магазин.
— Только все не трать! — крикнул вдогонку Гришка. — А то будете тут голодом сидеть без меня.
Я выбежал на морозную улицу и зашагал к Среднему. Тогда стояли самые лютые холода. Уже смеркалось, в подъездах зажигались синие лампочки. В сумерках показалась странная процессия. Впереди ехала автокачка — телега на автошинах, ее вез большой заиндевевший конь. На передке автокачки сидел возница в шубе и в валенках, упираясь спиной в ящики, заполненные бутылками с водкой. За телегой шел народ — степенно и медленно, как на похоронах. Только на похоронах за колесницей идут как попало, в несколько рядов, а здесь шли строго гуськом. Хвост рос на ходу, к нему присоединялись все новые и новые мужчины. С водкой во время финской кампании были перебои, и вот любители выпить дежурили у спирто-водочного склада и, когда водку везли в магазин, занимали очередь за телегой. Но я-то шел не водку покупать — мы ее не пили, она была для нас дороговата. Мы пили плодоягодное вино, а его в магазинах хватало.
Когда вернулся домой, то, не раздеваясь и не заходя в комнату, зажег в кухне керосинку, налил в кастрюлю воды и вывалил в нее сардельки. Возле керосинки я поставил бутылки, чтобы вино немного подогрелось. В большой коммунальной закопченной кухне было в этот час тихо. Только тетя Ыра — жиличка крайней комнаты — сидела на табуретке у углового столика перед своей керосинкой. Тетя Ыра была не старая, но уже пожилая. Она жила бедно, беднее всех в квартире, поэтому у нее казалось не стыдным занимать — она всегда даст в долг, если сама при деньгах. Она была очень добрая, честная; плохо только, что верила в бога и в разные чудеса и суеверия. Тетя Ыра часто ездила молиться к Николе Морскому и за трамвай в таких случаях не платила. На склад, где работала, ездила за деньги, а в церковь — за так. Очевидно, она считала, что бог все расходы берет на себя. Про ее религиозность все знали. К ней не раз приходили из жакта провести беседу накоротке о том, что бога нет и не будет. Ей и брошюры приносили антирелигиозные — и она их честно прочитывала. Они, однако, оказывали на тетю Ыру неправильное действие: читая о чудесах, которые в них разоблачались и о которых она прежде не знала, она начинала верить в эти чудеса. «Вот вы говорите: „бога нет“, а спаситель-то наш по воде пешком ходил. Под ним глыбь-глубина — а он идет, хоть бы что! Своими глазами в книге читала!» Напрасно мы толковали ей, что этого чуда не было, что оно разоблачается. Она стояла на своем. Может быть, виноваты в этом были и авторы брошюр. Чудеса там описывались интересно, а разоблачались непонятными научными словами.
В тот вечер тетя Ыра, сидя перед керосинкой, читала-почитывала одну такую книжечку. Взглянув на мои бутылки, она вдруг высказалась:
— Вот вы, молодежь, в бога не верите, а спаситель-то наш в Кане Галерейской воду в вино превратил, в магазин с авоськой не бегал. На свадьбе это дело было.
— Ну, у нас не свадьба, — ответил я. — У нас дело посерьезнее. Гришка на войну добровольцем идет.
— На войну? — Тетя Ыра встала с табуретки, встревоженно помешала ложкой в кастрюле, потом повернулась лицом к углу, где висел отпечатанный на жести плакат «Неосторожное обращение с примусом ведет к пожару», и несколько раз перекрестилась.
— Плохое Гришино дело, — сказала она, снова усевшись возле кухонного столика. — Его убить могут, у них кукушки есть. Привяжет себя к сосне, к верхушке, и стреляет. Убьет наших сколько может, потом последнюю пулю — в себя. Гришу мне жалко, он из вас четырех самый самостоятельный. Завтра за него свечку Николаю Чудотворцу поставлю.
Я надел перчатки, чтоб не обжечь руки, и, сняв кастрюлю с керосинки, слил воду. Потом, держа ее низко, у самого живота, понес в нашу комнату. Сеточку с тремя бутылками плодоягодного я держал в зубах. Я шел по длинному коридору, мимо всех дверей, и за мной тянулся запах горячих сарделек. Потом я толкнул ногой нашу дверь и вошел в комнату.
— Наконец-то! — сказал Володька. — Где так долго околачивался?
— Беседовал с тетей Ырой, — ответил я. — Она за Гришку завтра свечку поставит, чтоб его не укокали.
— А ты не скули! — рассердился Костя. — Нечего говорить об этом! Будущее зависит не только от самого себя, а и от нашего представления о нем, и если мы тут будем сидеть и скулить, то это может отразиться на Гришке.
— Ты просто суеверен, — сказал я. — Подводишь псевдонаучную базу под суеверия.
— Ты мыслишь на уровне кошки! — взъелся Костя. — Ты не умеешь мыслить отвлеченно! Ты думаешь, что есть прошлое, настоящее и будущее как три разные доминанты. Они есть только с твоей обывательской точки зрения. На самом же деле нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, да и вообще никакого времени нет, а есть ряды взаимосвязанных событий…
— Бросьте, ребята, спорить! Приступим к делу. — Гришка подошел к стенному шкафу, достал оттуда штопор и передал его Володьке. Володька был узким специалистом по открыванию бутылок и банок со сгущенным молоком. И он быстро и красиво откупорил плодоягодное и разлил по стаканам.
— Первый бокал — солдату, — сказал он, подавая стакан Гришке. — О, Мымрик то и Мымрик се, и с Мымриком знаться стыд, зато: «Спасибо, мистер Мымрик!» — когда военный марш звучит. Родной герой, пожалте в строй! Военный марш звучит!
— Не перевирай старика Киплинга, — пробурчал Костя. — Давайте-ка чокнемся со звоном за Гришкино здоровье.
Мы сдвинули стаканы, но звона не получилось. Стаканы были незвонкие, из зеленоватого бутылочного стекла. В таких тогда продавали простоквашу. Но вино было — что надо. Оно нам казалось совсем неплохим, другого мы и не пили.
— Перейдем к деловой части нашего собрания, — заявил Гришка. — В связи с текущими событиями я слагаю с себя обязанности капитана комнаты и верховного казначея. Кто займет мое место?
Это была проблема серьезная, мы призадумались. Дело в том, что стипендия у нас шла в общий котел, и деньги всегда хранились у Гришки. На него можно было положиться.
— Пусть этот пост займет Синявый, — предложил я. — После Гришки он из нас самый порядочный.
— А я что — не порядочный? — обиделся Володька. — Мымрик, я разве не порядочный?
— Ты, Шкиля, тоже порядочный, — утешил его Гришка. — Но ты очень уж любишь пожрать. Ты можешь невзначай прогореть на сгущенном молоке.
— Черт с вами! — согласился Володька. — Я делаю самоотвод. Но я против Синявого, он еще утвердит тут свою диктатуру. Пусть лучше Чухна временно займет этот пост, до возвращения Мымрика.
— Чухну слишком легко уговорить, — сказал Гришка. — Сам-то он денег не растратит, но у него их легко могут выманить.
Мы продолжали обсуждать кандидатуру. И, как всегда, когда у нас шел серьезный разговор, называли друг друга не по именам, а по кличкам. За разговором мы не забывали и о вине.
— А почему ты, Мымрик, все-таки идешь на войну? — спросил вдруг Володька слегка заплетающимся языком. — Война еще будет. Вот тогда все вместе и пойдем, кроме, конечно, Синявого, — его не возьмут. Будет большая война с Гитлером. С танками, с газами, с ипритом и люизитом… Все равно мы все будем на войне.
— И на финскую должен кто-то идти, — тихо ответил Гришка. — Меня воспитало государство, и я должен за него стоять. Родителей у нас нет, всем на нас наплевать было, мы без государства бы с голоду под забором подохли, а государство нас выручило. И мы, детдомовские, должны на всякое дело идти в первую очередь. Другие — как там хотят, а мы должны в первую очередь.