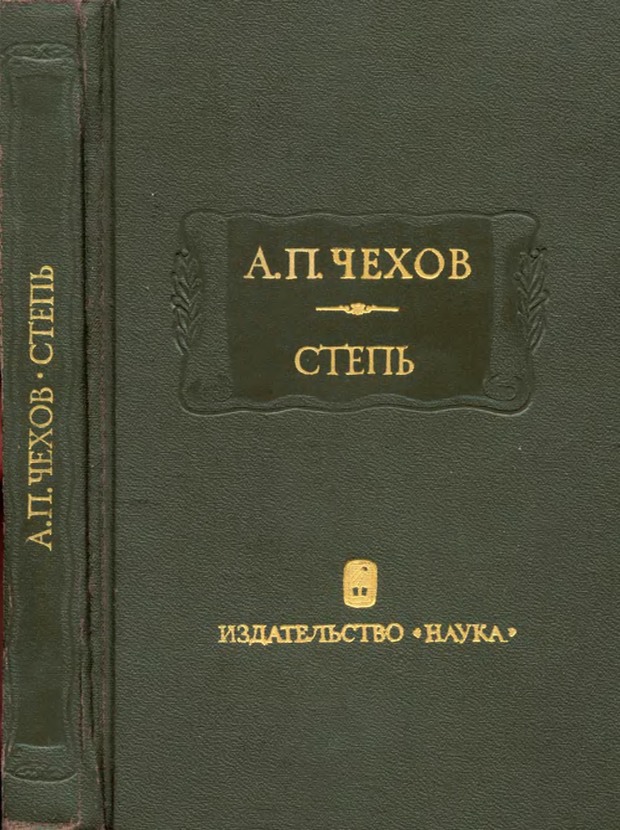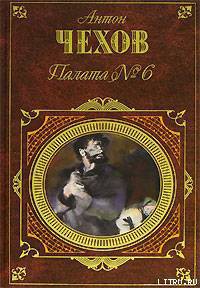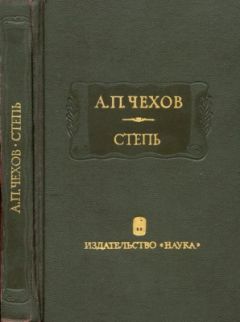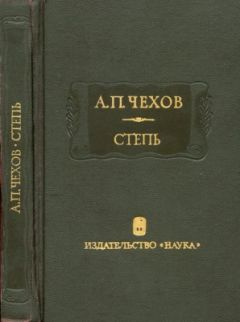хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:
— Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?
Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.
Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, ощипанная фигурка.
Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.
— Приятного аппетиту! Чай да сахар! — начал он занимать гостей. — Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? — спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.
— Это сынок сестры Ольги Ивановны, — ответил Кузьмичов.
— А куда же он едет?
— Учиться. В гимназию его везем.
Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.
— О, это хорошо! — сказал он, грозя самовару пальцем. — Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!
Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:
— Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.
— Да, вздумал вот на старости лет… — сказал о. Христофор и засмеялся. — Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да Богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице… Суета!
— Зато грошей будет много!
— Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а затя Михайлы!
— Отчего же он сам не поехал?
— А оттого… Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать — ума нет, молод еще. Все деньги потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и — «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!» То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними!
— Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! — вздохнул Мойсей Мойсеич. — У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в Священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!
— М-да… — согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан. — Мне-то, собственно, нечего Бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай Бог всякому… Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да Богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было и теперь ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Все у меня есть и все слава Богу. Счастливей меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один Бог без греха. Ведь верно?
— Стало быть, верно.
— Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се… одышка и всякое там… Болею, плоть немощна, ну да ведь, сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.
О. Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.
— Потеха! — сказал о. Христофор и махнул рукой. — Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах… Хорошо-с… Я ему и говорю: «Вот, говорю, одышка, то да се… Ты доктор, лечи отца!» Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки… живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом».
О. Христофор захохотал судорожно, до слез и поднялся.
— А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. — Бог с ним, с этим сжатым воздухом!
Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.
— Бог с ним, с этим сжатым воздухом! — повторил о. Христофор, хохоча.
Мойсей Мойсеич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.
— О, Боже мой… — стонал он среди смеха. — Дайте вздохнуть… Так насмешили, что… ох!.. — смерть моя.
Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и