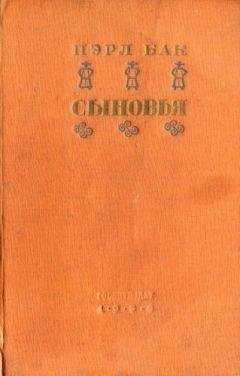Сквозь эту толпу проезжал Ван Тигр. Его вооруженная охрана и оружие были ему нужны, потому что иначе эти люди напали бы на него. Да и так то здесь, то там вставал кто-нибудь, мужчина или женщина, и хватался за ноги его коня, молча и в отчаянии, с последним проблеском надежды. И Ван Тигр в душе относился к ним сострадательно и останавливал своего коня, чтобы не растоптать их. Нет, он ждал, покуда один из телохранителей не подойдет и не отцепит несчастного, снова бросив его на землю, и тогда Ван, Тигр, не оглядываясь, ехал дальше. Иногда человек оставался лежать там, куда его бросили, а иногда он испускал дикий вопль и бросался в воду, и тем кончалась его жизнь и его бедствия.
Всю дорогу мальчик ехал рядом с отцом и за всю дорогу не сказал ни слова, и сам Ван Тигр не заговаривал с ним, так как между ними стояли шестеро убитых солдат, и Ван Тигр боялся спрашивать сына о чем бы то ни было. Но мальчик не подымал головы и только иногда взглядывал украдкой на голодающих, и такой ужас появлялся на его лице, что Ван Тигр не мог этого вынести и сказал наконец:
— Это самые обыкновенные люди, и они привыкли голодать. Таких, как они, десятки тысяч, и если они умрут, то уже через несколько лет никто этого не заметит. Они растут быстро, как рис на полях.
Тогда мальчик сказал неожиданно, и голос его ломался, как у молодого петушка, и оттого, что он был взволнован и боялся расплакаться перед отцом, срывался на высоких нотах:
— А все-таки я думаю, что им так же трудно умирать, как если бы они были правители или такие же люди, как мы.
И говоря, он старался крепко сжимать губы, но зрелище в самом деле было печальное, а губы его дрожали, несмотря на все усилия сдержаться.
Вану Тигру хотелось бы сказать сыну что-нибудь утешительное, но его удивили такие слова: ему ни разу не приходило в голову, что эти простые люди страдают так же, как мог бы страдать он сам на их месте. Он знал, что каждый человек родится в своем сословии и ни один не может стать на место другого. Ему не совсем понравились слова сына, потому что военачальник не должен быть слишком мягок сердцем и страдать за каждого, кто терпит бедствия. И Ван Тигр не мог придумать ничего утешительного, потому что в эти дни были сыты одни только вороны, которые вились над водой, медленно описывая широкие круги, и он сказал только:
— Все мы одинаковы перед жестокой волей небес.
После этого Ван Тигр оставил сына в покое; он понял, о чем думает мальчик, и больше его не расспрашивал.
За время путешествия Ван Тигр не раз пожалел о том, что ему нельзя было оставить сына дома. Но он не отважился на это, боясь, что среди его солдат есть скрытое недовольство, после того, как он приказал убить тех шестерых. Однако брать его с собой к дядям во двор он опасался почти столько же, сколько оставлять его здесь под угрозой смерти. Он боялся распущенности племянников, боялся грубого корыстолюбия, свойственного торговцам. И потому он приказал воспитателю сына, который также ехал с ним, и человеку с заячьей губой ни на минуту не оставлять молодого господина одного, а кроме того выбрал десять старых самых испытанных солдат, чтобы они днем и ночью оставались при его сыне; сыну же сказал, что он и здесь должен также сидеть за книгами, как дома. Но он не отважился сказать ему: «Сын мой, ты не должен бывать там, где есть женщины», так как не знал, думает ли мальчик об этом. Все эти годы, что сын прожил вместе с Ваном Тигром на его дворах, там не бывали женщины — ни служанки, ни рабыни, ни распутницы, и мальчик не знал ни одной женщины, кроме матери и сестер, а за последние годы Вам Тигр не пускал его одного даже к матери, когда он изредка ходил навещать ее по долгу сына, и посылал телохранителя вместе с ним.
Так ревновал Ван Тигр своего сына, — ревновал его больше, чем другие мужчины ревнуют своих возлюбленных.
И все же, вопреки всем тайным страхам, это была сладкая минута для Вана Тигра, когда он въезжал в ворота братьев и сын ехал рядом с ним. Почему-то Вану Тигру захотелось, чтобы портные его и швецы сшили для сына точно такое же платье, как у него самого, и на мальчике была точно такая же куртка из заграничного сукна с такими же золочеными пуговицами и погонами на плечах и такая же фуражка со знаком на ней, как и у Вана Тигра. Ко дню рождения мальчика, когда ему исполнилось четырнадцать лет, Ван Тигр послал человека в Монголию, и тот отыскал двух совершенно одинаковых лошадей, — только одна из них была поменьше, а другая покрупней; обе крепкие и темно-рыжей масти, — теперь даже лошади у них были одинаковые. Для слуха Вана Тигра было самой сладкой музыкой, когда народ на улицах кричал, останавливаясь поглядеть на проезжавших солдат:
— Глядите, вот старый генерал, с маленькими генералом! Они похожи друг на друга, как два передних зуба во рту!
Так они подъехали к воротам Вана Помещика, и мальчик спрыгнул с лошади так же, как отец, и, положив руку на рукоять меча так же, как отец, степенно пошел рядом с ним, даже не сознавая, что он все делает так же, как отец. Братья с сыновьями один за другим вышли к нему навстречу, услышав, что он приехал, и Ван Титр оглядывал всех по очереди и упивался тем восхищением, с которым все смотрели на его сына, — он упивался им, как жаждущий упивается вином. И в те дни, что Ван Тигр пробыл в доме братьев, он жадно и неотступно следил за сыновьями братьев, едва сознавая, что делает, так как жаждал увериться, что его сын лучше их, жаждал увериться, что он не обманулся в своем единственном сыне.
И много видел Ван Тигр такого, что могло его утешить. Старший сын Вана Помещика был теперь давно женат, хотя детей у него еще не было, и жил с женой в том же доме, где и Ван Помещик со своей госпожой. Этот старший сын становился все больше и больше похожим на отца; живот у него начинал округляться, и красивое тело заплыло толстым слоем жира. Но взгляд у него был беспокойный, — и было отчего беспокоиться: жена его не могла ужиться с матерью, госпожой в доме, держала себя дерзко, считая себя новой женщиной и умнее всех других, и кричала на мужа, когда, оставаясь с нею наедине, он пытался ее образумить:
— Как? Неужели я должна быть служанкой у этой чванливой старухи? Разве она не знает, что в наше время молодые женщины свободны, и никто теперь не станет прислуживать свекрови!
К тому же молодая женщина ничуть не боялась госпожи, и если та, по-старому величественно, говорила: «Когда я была молода, я выполняла свой долг и прислуживала свекрови, подавая ей чай по утрам, и покорялась во всем, как меня учили делать, и это был мой долг», — то невестка, встряхнув короткими волосами и топнув хорошенькой незабинтованной ножкой, очень дерзко отвечала:
— А мы, современные женщины, никому не покоряемся!
И от таких раздоров молодой муж нередко чувствовал скуку, а развлечься, как он развлекался в прежнее время, было нельзя, потому что молодая жена следила за ним и разузнала бы, куда он ходит играть; к тому же она была так бойка, что не боялась выбегать за ним на улицу, и кричала, что она тоже пойдет с ним, что теперь женщин не держат взаперти и что мужчины и женщины равны; и слыша такие речи, прохожие на улицах оборачивались, и чтобы она его не осрамила, муж бросил свои старые развлечения, так как был уверен, что у нее хватит смелости пойти за ним куда угодно. Молодая жена была так ревнива, что отучила мужа от всех старых привычек и самых естественных желаний: он не смел даже взглянуть на хорошенькую рабыню, а к дому свиданий ему нельзя было даже подойти без того, чтобы при его возвращении она не подняла визга и плача на весь дом. Однажды приятель, которому он пожаловался, дал ему такой совет:
— Пригрози ей, что возьмешь наложницу, — от этого всякая женщина смирится.
Но когда молодой муж попробовал так сделать, жена его ничуть не смирилась и закричала на него, сверкая своими круглыми глазами:
— Теперь уже не то время, и ни одна женщина этого не потерпит!
И не успел он понять, в чем дело, как она уже бросилась к нему с протянутыми руками и расцарапала ему обе щеки, и на каждой щеке выступило по четыре глубоких ярко-красных царапины, так что каждому сразу было видно, откуда они взялись, и он целые пять дней не мог никуда показаться. Наказывать ее он тоже не смел, потому что брат ее был ему приятель, а отец — начальник полиции в городе и человек влиятельный.
Однако ночью он все еще любил ее, потому что она умела нежно к нему прижиматься, делать вид, что раскаивается, и ласкаться к нему, и тогда он чувствовал, что любит ее всем сердцем, и, смягчившись, слушал ее речи.
В такие часы все ее речи сводились к тому, чтобы он попросил у отца денег, и тогда они уедут из этого дома в какой-нибудь портовый город на побережье и там заживут иной жизнью, по-новому, среди таких же новых, как они сами, людей. И она бросалась к нему на шею, и обнимала его своими хорошенькими ручками, и ластилась к нему или начинала сердиться и плакать, ложилась в постель и отказывалась вставать и принимать пищу, пока он не даст этого обещания. И так на тысячу ладов она докучала мужу, пока он не дал ей слова пойти к отцу. Но когда, исполняя данное слово, он отправился к отцу, то Ван Помещик, выслушав его, взглянул на него своими старческими сонными глазами и сказал: