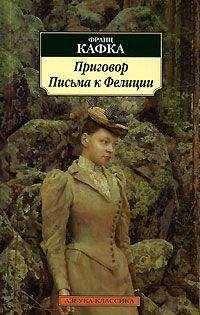Осознаю ли я, что принадлежу Тебе всецело? Мне и не потребовалось осознавать, я знаю это уже полтора года. Помолвка ничего тут не изменила, сильнее укрепить во мне это сознание просто невозможно. Скорее это я иногда думаю, что Тебе, Ф., не вполне ясно, насколько и сколь необычным образом я Тебе принадлежу. Но терпение, все прояснится, Ф., в браке все постепенно прояснится, и мы будем самые слитные люди на свете. Любимая, любимая Ф., хоть бы мы уже ими были! Все эти минутные соприкосновения душ – несколько воскресений в Берлине, несколько дней в Праге – не в силах высвободить все, хотя в сердцевине все давно высвобождено, быть может, с самого первого моего взгляда в Твои глаза.
Каждый думал о своем, я полагал, что Ты должна ответить моей матери, и за этими мыслями забыл написать Твоей. Ты пишешь, что вынуждена напрашиваться на приглашение. Как так? Разве Ты не получила письмо моей матери от прошлого понедельника, в котором она Тебя уже пригласила, и притом наверняка очень радушно?
Друг моего мадридского дядюшки, чиновник австрийского посольства в Мадриде, был у нас в гостях, и я пошел с ним немного прогуляться. Странно, сейчас уже поздно, мы долго бродили, с нами были Оттла с кузиной, мы встретили еще уйму знакомых, и тем не менее сейчас, когда я после столь необычного для себя предприятия сел за стол (в последние годы я, как правило, гуляю днем один или с Феликсом, другим Феликсом), так вот, когда я сел, чтобы написать Тебе, я вдруг понял, что мне ни секунды не нужно над письмом думать, что в продолжение всей прогулки – в трамвае, в парке Баумгартен,[95] у пруда, и даже слушая музыку, и даже жуя кусок бутерброда (да-да, я даже съел вечером кусок бутерброда, одно непотребство за другим!), и по пути домой – я все время мыслями был с Тобой, только с Тобой. В душе я соединен с Тобой такой нерасторжимостью, какая ни одному раввину не снилась. Объявление в газету я сдам лишь завтра – на вторник. Завтра мой начальник возвращается из командировки, и я не хотел, чтобы объявление в газете появилось прежде, чем я не переговорю с ним по этому поводу лично. В среду Ты получишь газету. Разумеется, почти всем, кого это касается, уже и так все известно. Что, кстати, говорят Твои друзья и знакомые, многие ли повторили наблюдения парикмахера? И кстати, – теперь так будет заканчиваться каждое письмо, – по-моему, Тебе поскорее надо приехать. Так когда же, Ф., когда?
Твой Франц.
Это глупость, Ф., это болезнь, но если нет от Тебя письма или просто весточки, у меня руки опускаются, я ничего делать не могу, даже дать объявление в газету. Не то чтобы я волновался до такой же степени, как прежде, ведь мы теперь вместе (как «Берлинер Тагеблатт»[96] сообщает во всеуслышанье, а мое сердце нашептывает мне гораздо тише, но тем верней), и это ничего, что нет вестей, это, наверное, даже хорошо, что передышку от многих своих дел Ты используешь действительно для передышки, а не для писанины, и тем не менее – словом, объявление я отдам лишь завтра, а в пятницу Ты его получишь. Но это не разнобой и не разлад, Ф., да и вообще, по моему ощущению, газеты имеют к нашим с Тобой делам очень малое касательство. От объявления в «Б. Т.» мне даже немного не по себе, указание даты званого дня звучит, на мой слух, примерно так же, как если бы там значилось, что в воскресенье, на Троицу, Ф. К. исполнит в варьете смертельный номер под куполом. Но наши имена и фамилии смотрятся рядом ласково и дружно, это хорошо, пусть так всегда и будет.
Уже поздно, Твое срочное письмо я получил только сейчас, около девяти, во всяком случае, на службу оно пришло уже после двух. Самые сердечные приветы, за поцелуй спасибо, но ответить не могу, целуя из такой дали, не чувствуешь прикосновения любимых губ, а только проваливаешься со своим благонамеренным поцелуем куда-то во тьму и бессмыслицу.
Франц.
Моя дорогая Ф., всю почтовую бумагу исписал, только этот вот обрезок от Твоего письма остался. Послушай, я-то надеялся обеспечить Тебе этой помолвкой больше свободного времени, а на самом деле, похоже, лишь задал еще больше работы. Очень жаль! От Твоего отца получил только что очень любезное письмо; моя мать озабочена из-за каких-то нескольких строчек в Твоем письме моему отцу. Тоже мне хлопоты! Приезжай скорей, мы поженимся и покончим с этим! Хорошая квартира, о которой я говорил, освободится только в феврале, и то не наверняка. Другая хорошая квартира, в отличном районе, достаточно дорогая, с одинаковым количеством совершенно неповторимых достоинств, но и недостатков, зарезервирована для нас до вечера 2 мая. Это означает, что Ты самое позднее 1 мая должна быть в Праге.
Франц.
Любимая Ф., о двух вещах Ты не пишешь, хоть и знаешь, что обе они из-за Тебя (меня пока что оставим в стороне), именно и только из-за Тебя меня тревожат. Об одной я пока что вовсе не спрашивал, это Твой брат. Ты как-то мне написала, что в Берлине расскажешь все подробнее, не рассказала ничего, только одно это письмо я и получил, сумев заключить из него (я имею в Твиду, заключить из содержания письма), сколь много Ты об этом деле в том, что касается Тебя, повторяю, только в том, что Тебя касается, от меня утаила.
Второе – это Твой знакомый из Бреслау. Я не стесняюсь напрямик о нем спросить, ибо если этот призрак еще колобродит, то он явится и незваным гостем, если же он уже угомонился навек, то мне его этим окликом не пробудить и не вызвать. И не сули мне все объяснить устно при встрече. Ты уже давала мне подобные обещания и не сумела их исполнить. Скажи все прямо или прямо скажи, что говорить об этом не можешь. Есть столько всего, о чем невозможно – по • своей ли слабости, по слабости ли собеседника – изъясниться откровенно, тем более наш долг быть ясными там, где ясность возможна. Портрет может и дальше спокойно висеть в Твоей комнате, но и мне хотелось бы спокойно жить в своей.
Ф.
…Визиты доставят Тебе столько мучений, но еще ведь и удовольствия, не так ли? Каждому свое, Ты будешь принимать гостей, я – призраков.
Поздравлений я получаю достаточно, хотя наверняка не так много, как Ты. Первые я еще вскрывал, потом перестал, они подействуют и невскрытыми, если им и нам так суждено…
Итак, Ты приезжаешь в пятницу, будем считать, что это уже наверняка. Если Ты хочешь осмотреть квартиру, то это последний срок. Квартира очень хорошая; если во время осмотра будет такая же дивная погода, как сейчас, Ты захочешь ее снять, если нет, будешь думать. Она достаточно далеко от центра, очень просторная, вокруг много зелени, три комнаты, два балкона, одна терраса, 1200 крон, это много, в сущности, это больше, чем мы в состоянии платить. Я говорю так, будто имею хоть какое-то представление о том, сколько мы в состоянии платить.
Я-то ожидал, что Ты уже сообщишь мне точный день своего приезда. Если Ты не приедешь в пятницу, квартира пропадет. Снять квартиру без Тебя – нет, такую ответственность я брать на себя не хочу, ибо то, что Тебе в этой квартире понравилось бы, по идее, должно восполнять недостатки, которые вытекали бы для Тебя из того, что квартира эта довольно далеко от центра, что жить придется среди одних чехов и тому подобное. Так что попытайся все-таки приехать. Завтра я посмотрю квартиры в другой, пожалуй, более удобно расположенной части города, чтобы Тебе потом без лишних трудов сделать выбор уже из самого лучшего. Вчера я смотрел трехкомнатную квартиру, за которую просят всего 700 крон, в самом центре, сразу за музеем, что замыкает поверху Вацлавскую площадь. Квартира из тех, в каких обитаешь иногда в ночных кошмарах. Уже на лестнице на Тебя наваливаются самые разнообразные запахи, вход через темную кухню, в углу куча хнычущих детей, зарешеченное окно поблескивает стеклом и свинцом, насекомые-паразиты затаились по щелям в ожидании ночи. Жизнь в такой квартире можно вообразить себе лишь как свершившееся над тобою проклятье. Здесь ни поработать, ибо на работу отсюда уходят, ни согрешить, ибо грешить отсюда тоже уходят, здесь ты обречен только жить, хоть это почти невозможно. Надо бы нам не только желательные квартиры смотреть, Фелиция, нам надо хотя бы раз и на такую квартиру вместе взглянуть.
Ф.
Между нами, Фелиция, в том, что касается меня, за последнюю четверть года ничто и ничуть не изменилось, ни в хорошем, ни в худом смысле. Я, разумеется, на первый же Твой зов готов откликнуться и на Твое более раннее письмо, если бы оно до меня дошло, ответил бы непременно и сразу. Сам, правда, я Тебе писать не думал – в «Асканийском подворье» никчемность писем и вообще всего письменного выявилась слишком отчетливо, – но поскольку голова моя (в том числе и в своих мигренях, причем, как назло, и сегодня тоже) осталась прежней, в мыслях, мечтах и снах о Тебе она не ведала недостатка, и совместная жизнь, которую мы с Тобой там, у меня в голове, вели, лишь иногда бывала горькой, в основном же мирной и счастливой. Однажды, правда, я хотел Тебе – нет, не написать, но с кем-то послать известие, Ты не угадаешь, это был особый повод, выдуманный в пору засыпания, под утро, часа в четыре, в обычное время моих первых снов.