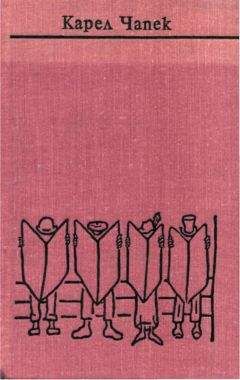Можно привести и еще одно принципиальное соображение. Литературная часть любого пражского театра фактически ответственна не только за свой репертуар, но и за репертуар небольших театров и любительских коллективов. То, что с успехом играют в Праге, играют и в провинции, будь то «Пушок»[299] или «Старая история»[300]. Разве это не возлагает на всех нас большую чисто моральную ответственность? Безусловно, не «Меропу»[301] и не «Ифигению в Тавриде»[302] будут копировать в провинции, там пойдет товар совсем иного сорта. Скажите сами, должны ли в этом отношении подавать пример одни лишь доходные сцены или также театры, сознающие свою общественную миссию?
А потому кончаю следующим «серьезным словом»: хорошо, что вы судите так взыскательно и ждете от наших театров наивысших достижений, но подумайте вместе с нами и о задачах более неотложных, чем те, что волнуют посетителей премьер. Не только летний сезон, но и весь предстоящий год и все последующие годы будут для нас жаркой порой из-за этих принципиальных вопросов театра: так помогите же нам своими знаниями!
1922
О Иозефе Чапеке[303]
© Перевод И. Порочкиной
Иозеф Чапек является…
Иозефу Чапеку присуще…
Творчество Иозефа Чапека — это…
Нет, с помощью точных определений ничего не получается. С абсолютной категоричностью профессионала можно говорить либо о вещах, в которых ты вовсе не сведущ, либо о том, к чему, по крайней мере, не имеешь никакого отношения. Я мог бы, скажем, определить окно вообще как правильный прямоугольник или как изделие из силиката; но окно, которое я ежедневно издавна вижу, — это брешь в небо и в мир, зеркало, холодящая гладь, о которую я могу остужать свой лоб или писать на ней пальцем, волшебная стеклянная пещера для моей кошки и еще многое другое. И если б надо было толком обрисовать свое окно, мне пришлось бы описать небосвод, четыре времени года, жизнь человека и прочее и прочее. Уверяю вас, это была бы целая книга — либо стихов, либо философских рассуждений, либо, возможно, сказок. К сожалению, ввиду краткости жизни, я никогда ее не напишу.
Что ж, не буду писать о Иозефе Чапеке так, словно он некий правильный прямоугольник (хотя во многих отношениях он весьма прямоугольный) или силикат… Я вообще не буду писать о Иозефе Чапеке. Буду писать о другом — о том, что навевают мне его картины. Возможно, кое-что из этого устроит читающих и смотрящих.
СТРЕМЛЕНИЕ СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ
Я бы хотел стать художником уже потому, что за работой он выглядит как настоящий мастеровой, он весь испачкан охрой, иногда кармином, белилами и другими чудесными красками и никогда не испытывает нужды в предметах изображения и поводах для работы.
В доме, где прошло наше детство, жил маляр по имени Рафаэль Иорка. И когда мы, бездельники-мальчишки, увязывались за ним на работу, помогали ему смешивать краски, размалевывая себе при этом физиономии ультрамарином или болотной зеленью, и, затаив дыхание, следили, как он «от руки» проводит линию или энергично орудует трафаретом, перед нами впервые раскрывался сказочный мир искусства. Как сейчас, вижу наш потолок, произведение сложное и великолепное, — на нем были изображены дельфины, извергающие какие-то золотые зернышки, русалки с шалями на плечах и тростник, буйно растущий в раковине фонтана. Потому что, да будет вам известно, в искусстве возможно все.
Тот же, кому на роду было написано стать художником, не сделался им сразу, а сначала работал текстильщиком у станка и монтером. Лишь по воскресеньям он мог корпеть над небольшими пейзажами, колоритно изображая закаты и прочие небесные явления и красоты мира. Один особенно яркий закат (9 х 14 см), на который он потратил уйму киновари, решил дело. Оставалось лишь преодолеть отцовскую осмотрительность и пойти в обучение.
УЧЕНИЧЕСТВО
Эта глава никогда не будет закончена, потому что человек никогда не овладеет всем сполна: горе тому, кто уже бросил учиться (я бы хотел жить как можно дольше, чтобы научиться хотя бы чему-нибудь из того, что я не умею). Ребенок умеет нарисовать человека, но не умеет провести прямую линию. В школе он научился этому, но рисовать человечков уже разучился. Если ему суждено стать художником, он будет учиться рисовать человечков, но опять-таки забудет, как проводятся прямые линии и всю прочую святую геометрию, на которой покоится мир. Путь ученичества сложен.
Говорят, кто ищет, тот и обрящет. Это верно. Но тот, кто ищет, должен прежде всего много ходить. Ищете ли вы грибы, или правду, или самих себя, вы должны много блуждать, колесить вокруг да около, испробовать все пути, отважиться на многое и все время продвигаться вперед. Кто ищет, тот многое оставляет позади. Но не будь в этих поисках безрассуден; не затаптывай догорающего костра своего предшественника, крича во все горло, что нашел золотую жилу, новое искусство и тому подобное, чтобы затем все это бросить и поднять крик на новом месте. Ищи тихо и внимательно. И ты повсюду обнаружишь следы тех, кто побывал здесь до тебя, потому что мир наш во множестве и извечно населяют люди.
«Мой стакан мал, но я пью из своего стакана», — сказал, кажется, Мюссе. Пусть так, но это возможно лишь при условии, что жажда невелика. Кто жаждет познаний, пьет из ладоней, как воины Гедеона[304], лижет росу небесную, но пользуется и осколком доисторического сосуда, и глиняным кувшином, продающимся на рынке, вообще, чем угодно, лишь бы только зачерпнуть влагу познания.
Но я собирался говорить не об утолении жажды и поисках, а об ученичестве. Сначала человека обучают, потом он учится сам. Эта вторая школа обычно строже и к тому же бессрочна. Искусству художник учится главным образом у самого себя, но природе учится у природы, а постижению человека — у людей. И если его искусство связано с природой и людьми, оно должно быть исследованием, классификацией и пробой всего сущего.
ИСКУССТВО
Как это — исследованием, классификацией и пробой? Разве искусство — не искра божья, не вдохновение, не чутье, не излияния индивидуальности, не самозабвенное самовыражение? Не торопитесь, раз уж мы затронули эти вопросы, разберемся и в них. Охапка охапке рознь, как говорит Сганарель. Внутренний мир внутреннему миру рознь. Во внутреннем мире одного бушуют вдохновение, стихия подсознательного, темперамент, инстинкты и другие субъективные начала. Во внутреннем мире другого бесценным кладом заключена зримая вселенная во всем ее многообразии. Одни носят в себе лишь самих себя, другие — строй небесных светил, и это — звездочеты, третьи — человеческие лица, и они — портретисты. Не берусь судить, какой из этих внутренних миров более сокровенен. Художник может пытаться выразить самого себя или, наоборот, выразить все сущее. Я не ломаю голову над тем, какая из этих двух задач более существенна, хочу только заметить, что художник, посвятивший себя изображению мира, должен приступить к делу во всеоружии наблюдений, познаний, конкретного опыта и формальной логики. Иначе он споткнется на самом пороге. Делайте, что хотите, но орешек бытия не разгрызешь с помощью одного вдохновения, необходимо обратиться к надлежащему инструменту разума; ты должен быть сведущим, терпеливым, объективным и делать свое дело сознательно. По странному недоразумению тебя назовут потом интеллектуалистом, будто весь твой тщательно вычищенный и смазанный маслом интеллект был чем-то большим, нежели просто инструментом, скажем — клещами, которыми ты захватываешь часть мира, чтобы удержать его. Я же считаю тебя одержимым, потому что твоей страстью является изображать мир; я считаю тебя чересчур чувствительным, потому что ты с повышенной эмоциональностью, с нежностью и оторопью воспринимаешь окружающее, я считаю тебя авантюристом и фантастом, ибо фантастично все и вся; а также мистиком, ибо таинственно все, во что ты всматриваешься. Ты то, что ты видишь. В том, что ты видишь, безошибочно проявляется твое «я». Ты вынужден быть нищим или должен им стать, чтобы увидеть мир шире и глубже. Но это не все; ты, художник, должен мир воссоздать — будь архитектором; ты должен что-то чему-то предпочесть — яви справедливость; ты должен обозначить свет и тени — так познай же свет и тени жизни! Чем больше ты познаешь, тем значительнее становится твое «я»… Увы, ты хочешь познать слишком многое, так тебе никогда не выразить полностью самого себя.
ВСЕ СУЩЕЕ
Поэтому ты изображаешь безмолвное скопление вещей, пейзажи, несущие на себе следы человеческого труда, и прежде всего — внутреннего и внешнего облика наших ближних: ребенка, матери, прохожих, нищих, пьяниц, лиц, проступающих в темноте, людей, будто намеревающихся что-то произнести и словно ожидающих чего-то. Это серьезный и торжественный момент, я бы назвал это конфронтацией, напряженным и удивительным противостоянием, встречей, которая отнюдь не случайна.