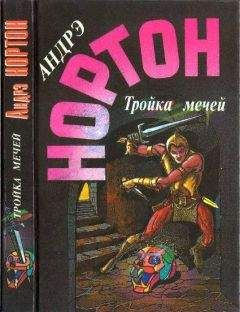Ознакомительная версия.
Кроме Глеба уже никто-никто не может её понять…
Но и Глеб тоже не может её понять…
Ничего он ей не сказал — как ей быть, как ей жить.
Только, что — сроку конца не будет…
Под быстрыми уверенными ударами мужа оборвалось и рухнуло всё, чем она каждый день себя крепила, поддерживала в своей вере, в своём ожидании, в своей недоступности для других.
Сроку — конца не будет!
И значит, она ему — не нужна… И, значит, она губит себя только…
Надя лежала ничком. Неподвижными глазами она смотрела в просвет между подушкой и одеялом на кусок стены перед собой — и не могла понять, и не старалась понять, что это за освещение. Было как будто и очень темно — и всё же различались на знакомой охренной стене пупырышки грубой побелки.
И вдруг сквозь подушку Надя услышала особенный дробный стук пальцами в фанерную филёнку двери. И ещё прежде, чем Даша спросила: «Щагов пришёл. Встанешь?» — Надя уже сорвала подушку с головы, спрыгнула на пол в чулках, поправляла перекрученную юбку, гребёнкой приглаживала волосы и ногами нащупывала туфли.
В безжизненно-тусклом свете полунакала Муза увидела её поспешность и отшатнулась.
А Даша кинулась к люд иной постели, быстро подоткнула и убрала.
Впустили гостя.
Щагов вошёл в старой фронтовой шинели внакидку. В нём всё ещё сидела армейская выправка: он мог нагнуться, но не мог сгорбиться. Движения его были обдуманны.
— Здравствуйте, уважаемые. Я пришёл узнать, чем вы занимаетесь без света, — чтоб и себе перенять. Подохнуть с тоски!
(Какое облегчение! — в жёлтом полумраке не были видны опухшие от слез глаза.)
— Так если б не сутёмки, вы б, значит, не пришли? — в тон Щагову ответила Даша.
— Ни в коем разе. При ярком свете женские лица лишены очарования. Видны злые выражения, завистливые взгляды, — (он будто был здесь перед тем!), — морщины, неумеренная косметика. На месте женщин я б законодательно провёл, чтобы свет давался только вполнакала. Тогда бы все быстро вышли замуж.
Даша строго смотрела на Щагова. Всегда он так говорил, и ей это не нравилось — какие-то заученные выражения.
— Разрешите присесть?
— Пожалуйста, — ответила Надя ровным голосом хозяйки, в котором не было и следа недавней усталости, горечи, слез.
Ей, наоборот, нравились его самообладание, снисходительная манера, низкий твёрдый голос. От него распространялось спокойствие. И остроты его казались приятными.
— Второй раз могут не пригласить, публика такая. Спешу сесть. Итак, чем вы занимаетесь, юные аспирантки?
Надя молчала. Она не могла много говорить с ним, потому что они поссорились позавчера и Надя внезапным неосознанным движением, с той степенью интимности, которой между ними не было, ударила его тогда портфелем по спине и убежала. Это было глупо, по-детски, и сейчас присутствие посторонних облегчало её.
Ответила Даша.
— Собираемся идти в кино. Не знаем, с кем.
— А — какая картина?
— «Индийская гробница».
— О-о, непременно сходите. Как рассказывала одна медсестра, «много стреляют, много убивают, вообще замечательная картина!»
Щагов удобно сидел у общего стола:
— Но позвольте, уважаемые, я думал у вас застать хоровод, а тут какая-то панихида. Может быть, у вас не всё гладко с родителями? Вы удручены последним решением партбюро? Так оно к аспирантам, кажется, не относится.
— Какое решение? — малозвучно спросила Надя. — Решение? О проверке силами общественности социального происхождения студентов, верно ли они указывают, кто их родители. Тут — богатые возможности, может быть кто-нибудь кому-нибудь доверился, или проговорился во сне, или прочёл чужое письмо, и всякие такие вещи…
(И ещё будут искать, и ещё копаться! О, как всё надоело! Куда вырваться?..)
— А, Муза Георгиевна? Вы ничего не скрыли?..
— Что за низость! — воскликнула Муза.
— Как, вас и это не веселит? Ну, хотите, я расскажу вам забавнейшую историю с тайным голосованием вчера на совете мехмата…?
Щагов говорил всем, но следил за Надей. Он давно обдумывал, чего хочет от него Надя. Каждый новый случай всё явнее выказывал её намерения.
… То она стояла над доской, когда он играл с кем-нибудь в шахматы, и напрашивалась играть с ним сама и обучаться у него дебютам.
(Боже мой, но ведь шахматы помогают забыть время!) То звала послушать, как она будет выступать в концерте.
(Но так естественно! — хочется, чтоб игру твою похвалил не совсем равнодушный слушатель!) То однажды у неё оказался «лишний» билет в кино, и она пригласила его.
(Ах, да просто хотелось иллюзии на один вечер, показаться где-то вдвоём… Опереться на чью-то руку.) То в день его рождения она подарила ему записную книжечку — но с неловкостью: сунула в карман пиджака и хотела бежать — что за ухватки? почему бежать?
(Ах, от смущения лишь, от одного смущения!) Он же догнал её в коридоре, и стал бороться с ней, притворно пытаясь вернуть ей подарок, и при этом охватил её — а она не сразу сделала усилие вырваться, дала себя подержать.
(Столько лет не испытывала, что руки и ноги сковались.) А теперь этот игривый удар портфелем?
Как со всеми, как со всеми, Щагов был железно-сдержан и с нею. Он знал, как завязчивы все эти женские истории, как трудно из них потом вылезать. Но если одинокая женщина молит о помощи, просто молит о помощи? — кто так непреклонен, чтоб ей отказать?
И сейчас Щагов вышел из своей комнаты и пошёл в 318-ю не только уверенный, что Надю он обязательно застанет дома, но начиная волноваться.
… Курьёзу с голосованием на совете если и рассмеялись, то из вежливости.
— Ну, так будет свет или нет? — нетерпеливо воскликнула уже и Муза.
— Однако, я замечаю, что мои рассказы вас ничуть не смешат. Особенно Надежду Ильиничну. Насколько я могу разглядеть, она мрачнее тучи. И я знаю, почему. Позавчера её оштрафовали на десять рублей — и она из-за этих десяти рублей мучается, ей жалко.
Едва Щагов произнёс эту шутку, Надю как подбросило. Она схватила сумочку, рванула замок, наудачу оттуда что-то выдернула, истерично изорвала и бросила клочки на общий стол перед Щаговым.
— Муза! Последний раз — идёшь? — с болью вскликнула Даша, взявшись за пальто.
— Иду! — глухо ответила Муза и, прихрамывая, решительно пошла к вешалке.
Щагов и Надя не оглянулись на уходящих.
Но когда дверь закрылась за ними — Наде стало страшновато.
Щагов поднёс клочки разорванного к глазам. Это были хрустящие кусочки ещё одной десятирублёвки…
Он встал из шинели (она осела на стуле) и беспорывно обходя мебель, подошёл к Наде, много выше её. В свои большие руки свёл её маленькие.
— Надя! — в первый раз назвал её просто по имени. Она стояла неподвижно, ощущая слабость. Вспышка её, изорвавшая десятку, ушла так же быстро, как возникла. Странная мысль промелькнула в её голове, что никакой надзиратель не наклоняет к ним сбоку свою бычью голову. Что они могут говорить, о чём только захотят. И сами решат, когда им надо расстаться.
Она увидела очень близко его твёрдое прямое лицо, где правая и левая части ни чёрточкой не различались. Ей нравилась правильность этого лица.
Он разнял пальцы и скользнул по её локтям, по шёлку блузки.
— Н-надя!..
— Пу-устите! — голосом усталого сожаления отозвалась Надя.
— Как мне понять? — настаивал он, переводя пальцы с её локтей к плечам.
— В чём — понять? — невнятно переспросила она.
Но не старалась освободиться!..
Тогда он сжал её за плечи и притянул.
Жёлтая полумгла скрыла пламя крови в её лице.
Она упёрлась ему в грудь и оттолкнулась.
— Ка-ак вы могли подумать??..
— А шут вас разберёт, что о вас думать! — пробормотал он, отпустил и мимо неё отошёл к окну.
Вода в радиаторе тихо переливалась.
Дрожащими руками Надя поправила волосы.
Он дрожащими руками закурил.
— Вы — знаете? — раздельно спросил он, — как — горит — сухое — сено?
— Знаю. Огонь до небес, а потом кучка пепла.
— До небес! — подтвердил он.
— Кучка пепла, — повторила она.
— Так зачем же вы швыряете-швыряете-швыряете огнём в сухое сено?
(Разве она швыряла?.. Да как же он не мог её понять?.. Ну, просто хочется иногда нравиться, хоть урывками. Ну, на минуту почувствовать, что тебя предпочли другим, что ты не перестала быть лучшей.)
— Пойдёмте! Куда-нибудь! — потребовала она.
— Никуда мы не пойдём, мы будем здесь.
Он возвращался к своей спокойной манере курить, властными губами зажимая чуть сбоку мундштук — и эта манера тоже нравилась Наде.
— Нет, прошу вас, пойдёмте куда-нибудь! — настаивала она.
— Здесь — или нигде, — безжалостно отрубил он. — Я обязан предупредить вас: у меня есть невеста.
Надю и Щагова сблизило то, что оба они не были москвичами. Те москвичи, кого Надя встречала среди аспирантов и в лабораториях, носили в себе яд своего несуществующего превосходства, этого «московского патриотизма», как называли сами они. Надя ходила среди них, какие ни будь её успехи перед профессором, в существах второго сорта.
Ознакомительная версия.