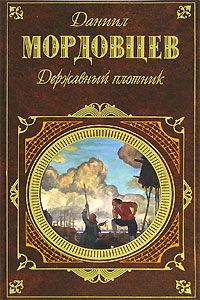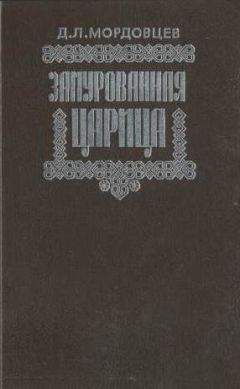А время между тем шло своим чередом, и ночь эта страшная шла своим чередом: для счастливых пролетала как один сладкий миг, как вздох переполненной блаженством души, как опьяняющий поцелуй; для несчастных и страдающих – как вечность, как тысячи лет и тьмы тем мучительных часов.
Пропустим же эту страшную ночь, вычеркнем ее из нашего повествования, потому что она была слишком долга для несчастного.
Он молился почти всю ночь, и Епифаний не отходил от него, Епифаний Могилеанский, киевской архимандрит, его школьный товарищ и друг. Он приехал в Москву навестить этого друга и дать ход некоторым делам своего монастыря, но чума захватила его тут, и он не мог выехать вовремя.
Когда Амвросий на минуту переставал молиться, Епифаний старался навести его на лучшие, менее мрачные мысли, и они вспоминали свою молодость, академические годы, Украину, Киев.
– И по сей час растет та верба, которую ты посадил, помнишь, в лавре, – вспоминал Епифаний.
– Помню. Я тогда переходил на курс элоквенции. Как это давно и в то же время как это, сдается, недавно было, – грустно качая головой, уже седой теперь, говорил Амвросий.
– Да, и как слепо и пышно растет.
– Так, так и перерастет нас.
– А на передней парте, в философском классе, все еще цела надпись, что ты вырезал, помнишь?
– Какая? Много я их резывал когда-то.
– А твой девиз: ant omnia, aut nihil[12].
– Да, да. Мое omnia уже проходит, а идет nihil.
– Для чего же так думать? Ты еще не стар...
– А Господь на что? Сегодня Он состарил меня на тридцать лет, а заутра... Э! Заутра, друже, может быть, помнишь?
Священники, диаконы
Повелят звонити —
Тоди об нас перестанут
Люди говорити...
И архиепископ горько улыбнулся.
– Да, помню, только зачем же так думать? – успокаивал Епифаний.
– Я и не думаю, друг, а душа моя слышит, что там ищут моей смерти.
– Э! Помилуй, теперь там тихо. Они спят... давно.
Нет, они не спали. Устав бесполезно ломать, разбивать, крошить в щепки и в мусор печи, полы, двери, окна, мебель, посуду, сами стены и не находя того, кого искали, они бросились в монастырские подвалы и погреба, вышибли в них железные двери и добрались до бочек с водками, винами, спиртом, разными питиями и маслами. И тогда потекло пьяное море: черпали из бочек пригоршнями, шапками, сапогами, лаптями и пили, до осатанения пили. Кто выкатывал сорокоуши на двор, кто вышибал из них днища, кто лез головой прямо туда, в источник опьянения, и опять все пило и кричало, что «Богородицу грабят». Слышались крики, что «турка идет на Москву», что сам «мор ходит по Кремлю в виде бабы простоволосой»...
– Ходит, ребятушки, и по-турецки разговаривает.
– А ты что же ее не за косы?
– Э! Поди-тко, сунься, не велено.
– Кто не велит? Бей ее, суку!
Все, что желало пить, забыться, все пило с отчаяния, пило с проклятиями, с криками, что-де все равно завтра умирать, не видать больше красна солнышка, пить-де умереть, не пить – умереть, так пей, душа, пьяною и на тот свет пойдешь.
Отдельные толпы хлынули к окраинам города «карантеи разбивать», «несчастненьких выпущать», и все это само лезло на заразу, на смерть. Карантины разбиты.
Где же Еропкин? Куда он девался? Где его энергия, неустрашимость, уверенность?
То же спрашивали и современники. «Где же полицейские офицеры с командами их? Где полк Великолуцкой, для защищения Москвы назначенный? Где, напоследок, градодержатели? Город оставлен и брошен без всякого призрения!» – восклицает очевидец этих ужасов в письме к своему другу.
Где же, в самом деле, были в эту страшную, поистине «воробьиную» ночь, когда даже ни воробьи, ни галки на Москве не могли сомкнуть глаз во всю эту ночь от того, что они видели вокруг себя, – где были градодержатели первопрестольной столицы?
А вон, главнейший градодержатель господин генерал-фельдмаршал, ее императорского величества действительный камергер, сенатор и московский главнокомандующий, славный победитель Фридриха Великого, сиятельный граф Петр Семенович Салтыков, ввиду грозившей его собачкам от моровой язвы опасности перевезший весь свой многочисленный собачий штаб в свое подмосковное имение, а вместе со штабом перетащивший туда и свои старые кости, вон он, мучимый бессонницей, тихо бродит по обширным пустым залам своего роскошного дворца, слабо освещенного восковыми свечами, и то и дело останавливается сам перед собой, не узнавая себя в огромных бемских зеркалах, останавливается и с удивлением спрашивает: «Кто вы, государь мой? Чего вам от меня надобно?» Потом узнает себя, машет с досады рукою и опять бродит. За пазухой его шелкового халата копошится что-то живое, к которому он то и дело нагибает свою старую голову и тютюшкает. Это щенок, которого привез ему обер-полицмейстер от генерала Мамонова и который, по свидетельству обер-полицмейстера, родился с глазами. Граф сильно привязался к малютке и постоянно носит его за пазухой и постоянно тютюшкает. «Ах, бедненький мой сироточка! Нету у тебя ни отца, ни матери, постой, постой, я велю моему обер-полицмейстеру, а то и Петру Дмитриевичу Еропкину, он разбитной молодой человек, велю сыскать твою суку-матушку. Ишь, шельма, убежала!» Потом подносит своего любимца к столу, изливает из серебряного молочника молочка в фарфоровую чашечку и кормит его.
Вот что делает главный градодержатель!
А вон и Еропкин. Услыхав набат и свирепые крики в Кремле, он велит подать себе коня-аргамака и вместе с веселым доктором скачет на место криков.
– Негодяи! Мерзавцы! Я вас! – неистово вскрикивает он, подскакивая к толпе.
– Тише, тише, генерал! – унимает его веселый доктор.
– Что такое! Я их!
– Тише, вы не Бог, его же и ветры послушают, ведь это стихии грозные...
– Я вас!
– А! Енарал! – сипит великан с сивой косой, и массивный шест, свистнув в воздухе, ударяется о красивое, молодое тело генерала.
– Ой, негодяй! – стонет генерал.
– А! Вот тебе ишшо! Н-на! И мы тоже не левой ногой сморкаемся! – И булыжник, в голову величиной, прошумев в воздухе, бьет генерала по ноге, но так, что прекрасный, арабской породы аргамак вместе с генералом становится окарач.
– Бей его! Лови!
И конь, и всадники скрываются. «Улю-лю-лю! Улю-лю-лю!» – слышится им вслед. Остается один веселый доктор. К нему радостно бросается какая-то собачка.
– А! Маланья! И ты тут...
– Тут, тут, ваше благородие, – вырастает из земли краснобровый солдат. – Только вы-то, Христа радушки, уходите отселева. Жаль мне вас. Тут у нас хуже Турции, такие везиря позавелись! И не приведи Бог... Уходите, батюшка, Крестьян Крестьяныч!
И веселый доктор тоже исчез.
Так прошла ужасная ночь. Наутро главная партия защитников Богородицы, под предводительством великана с сивой косой и по науськиваниям «гулящего попика», направляется к Донскому монастырю.
Там уже шла ранняя литургия. Амвросий собирался в церковь, как услыхал у стен монастыря говор, неистовые крики и оружейную пальбу. Он понял, что это пришла его смерть, и, как бы прощаясь, взглянул на своего друга. Тот стоял безмолвный, бледный. Из-за стен доносилось что-то очень грозное...
Вдруг в келью вбегает запорожец-служка. Мужественное лицо его бледно, руки дрожат.
– Ваше преосвященство! – вскричал он, падая на колени. – Нехай мене вбьют, а не вас...
– Спасибо тебе, доброе дитя! – со слезами отвечал архиепископ. – Не тебя ищут, а меня.
– Ни, ваше преосвященство! Вы надиньте мий кожух, а я вашу рясу и клобук, та и посох озьму, то воныне пизнают мене и вбьют.
Архиепископ грустно покачал головой, взглянул на образ Богородицы с Предвечным Младенцем, перекрестился и направился в церковь. Запорожец, обхватив его ноги и обливая их слезами, стонал: «Ни-ни, я вас не дам им... Не ходить до их, не ходить, не ходить!» – И он волокся за ногами архиепископа, ловя его рясу и рыдая как ребенок.
На дворе слышнее было, что творилось за воротами монастыря. Амвросий на мгновенье остановился, взглянул на небо, которое начинало голубеть и розоветь с востока, и, подняв руку, широко благословил своих невидимых врагов, голоса которых звучали как-то глухо, набатно.
Войдя в церковь и поклонившись местным образам, он обратился к стоявшим в церкви и сделал три глубоких поклона на три стороны. Когда из-под черного клобука блеснуло, буквально блеснуло его бледное лицо, когда бывшие в церкви увидели, откуда исходит этот странный блеск, когда понятно стало, что это кланяется страдалец, которому одна ночь посеребрила волосы, все упали на колени и поклонились до земли с каким-то стоном ужаса и отчаяния. И он, троекратно благословив эти припавшие к церковному полу черные клобуки, тихо вошел в алтарь.
Началось богослужение. Похоронно звучали молитвы служащих, что-то похоронное слышалось и в пении клиров, многие рыдали.
А глухие раскаты все ближе и ближе... Слышно было, как грохнули выдавленные напором толпы монастырские ворота, как ревущая волна ворвалась в монастырь, как разлилась она по нем и все залила собою.