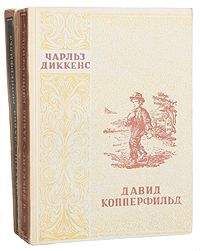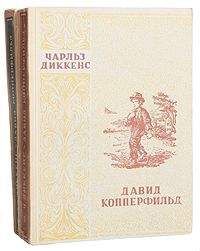— А если так, — сказала миссис Микобер, — если мистер Микобер поймет свою миссию, то не права ли я, что он усилит, а не ослабит, свою связь с Британией? Разве не почувствуется на родине влияния крупной личности, проявившей себя в другом полушарии? Могу ли я быть такой малодушной и допустить, что мистер Микобер, завоевав себе благодаря своим талантам власть в Австралии, был бы ничем в Англии? Нет! Такое нелепое малодушие делало бы меня недостойной и себя (хотя я только женщина) и своего папы!
Убеждение миссис Микобер в неоспоримости ее аргументов сообщало ее. тону небывалый моральный подъем.
— Вот почему, — продолжала она, — я так хочу, чтобы в будущем мы снова жили на родной земле. Мистер Микобер может стать… да, я не скрываю от себя этой возможности, что он станет исторической, личностью, и тогда ему нужно будет снова появиться в стране, которая его родила, но не сумела найти ему применения!
— Душа моя! — заявил мистер Микобер. — Я не могу не быть тронутым вашей любовью и всегда готов положиться на ваш здравый смысл. Что будет, то будет! Да сохранит меня бог, чтобы я лишил свою родину какой-либо частицы богатств, которые могут собрать наши потомки!
— Это похвально, — заметила моя бабушка, кивая мистеру Пиготти, — и я пью за всех вас, за ваши успехи и благоденствие!
Мистер Пиготти спустил со своих колен двух детей, которых нянчил, и присоединился к мистеру и миссис Микобер, чтобы, в свою очередь, выпить за наше здоровье. Когда же после этого он и Микоберы сердечно пожали друг другу руки и загорелое лицо старого моряка осветилось улыбкой, я почувствовал, что он пробьет себе дорогу, завоюет себе доброе имя и будет любим всюду, куда бы ни попал.
Даже детей заставили зачерпнуть деревянными ложками содержимое котелка мистера Микобера, и они тоже выпили за наше здоровье. После этого моя бабушка и Агнесса встали и начали прощаться. Это было горестное прощание. Все плакали. Дети до последнего мгновения висели на Агнессе. Мы оставили бедную миссис Микобер в отчаянии, плачущей и рыдающей у тускло горящей свечи.
Приехав на следующее утро к Микоберам, я узнал, что они уже в пять часов утра на лодке перебрались на корабль. Тут я почувствовал, какую пустоту создают такие отъезды. Хотя я видел Микобера на этом свисающем над водой постоялом дворе и на пристани только один раз накануне вечером, но оба эти места показались мне печальными и заброшенными.
В этот же день после полудня мы с моей старой няней отправились в Грэвсенд и нашли корабль эмигрантов на реке, среди множества лодок. Дул попутный ветер, и на верхушке его мачты развевался флаг, сигнализирующий отплытие. Я нанял лодку, и мы добрались до корабля.
Мистер Пиготти ждал нас на палубе. Он рассказал мне, что мистер Микобер был только что снова (в последний раз) арестован за неоплату векселя Гиппа, но что он, Пиготти, выполняя мои указания, уплатил следуемую сумму. Я сейчас же вернул ему деньги, и мы прошли с ним в междупалубное помещение. Здесь мои страхи, что до мистера Пиготти могли дойти слухи о катастрофе в Ярмуте, окончательно рассеялись; вынырнувший из мрака мистер Микобер дружески-покровительственно взял мистера Пиготти под руку и сказал мне, что они почти не расставались с прошлого вечера.
Кругом все было так необычно для меня, так тесно и темно, что сначала я почти ничего не мог разобрать, но мало-помалу глаза мои стали привыкать к темноте, и мне показалось, что я стою перед картиной Остэда[32]. Среди больших бимсов[33], рымболтов[34] и других корабельных принадлежностей, коек эмигрантов, их ящиков, узлов, бочонков и разного другого багажа, среди всего этого, освещенного кое-где качающимися фонарями, а кое-где желтоватым светом, пробивающимся через люки, кучками толпились пассажиры. Тут они заводили новые знакомства, прощались, разговаривали, смеялись, плакали, закусывали и выпивали. Одни из них уже устраивались на нескольких доставшихся им футах, и даже их детишки сидели уже на своих креслицах; другие же, отчаявшись добыть себе место, где можно было бы отдохнуть, печально бродили из угла в угол. Казалось, что в этом узком междупалубном пространстве собрались все возрасты и все профессии: от грудных младенцев, которым не было и двух недель, до согбенных стариков и старух, которым осталось жить, быть может, не более двух недель, от земледельца, уносившего на своих сапогах (в буквальном смысле слова) землю Англии, до кузнеца, чья кожа была еще пропитана сажей и дымом.
Оглядываясь вокруг, я заметил сидящую у дверей рядом с одним из детей Микоберов женщину, похожую на Эмилию. С ней прощалась, целуя ее, другая женщина, которая затем, спокойно пробиваясь сквозь толпу, направилась к выходу. Что-то в ней напомнило мне Агнессу, но среди всей этой суматохи, к тому же будучи очень взволнован, я вскоре потерял ее из виду. Единственное, что я сознавал, это то, что посетителей уже предупредили о необходимости покинуть корабль, что моя няня плачет, сидя на ящике рядом со мной, а миссис Гуммидж с помощью какой-то молодой миссис в черном приводит в порядок вещи мистера Пиготти.
— Не хотите ли еще что-нибудь сказать мне, мистер Дэви? — спросил мистер Пиготти. — Не забыли ли вы чего-нибудь?
— Да, хотел еще спросить вас о Марте…
Старик прикоснулся к плечу молодой женщины в черном, та выпрямилась, и я увидел Марту.
— Да благословит вас бог, добрый человек! — воскликнул я. — Вы, значит, берете ее с собою?
Марта ответила за него, разразившись слезами. Я ничего больше не в силах был сказать, а только крепко пожал руку этому чудесному человеку, чувствуя к нему необыкновенную любовь.
Провожающие поспешно покидали корабль. Мне оставалось исполнить мой последний, тягостный долг — рассказать старику то, что поручил мне передать ему при прощании его благородный племянник. Мистер Пиготти был глубоко растроган. Но, когда, в свою очередь, он просил меня передать тому, кто уже не мог услышать это, о том, как он его любит и жалеет, я взволновался еще больше старика.
Наступил момент расставания. Я обнял его, взял под руку свою плачущую няню и поспешил к выходу. На палубе я распрощался с бедной миссис Микобер. Она с рассеянным видом смотрела вокруг себя, все еще ожидая появления своих родичей, и последнее, что она мне сказала, было: «Я никогда не покину мистера Микобера».
Мы пересели в нашу лодку и остановились на небольшом расстоянии, чтобы видеть отплытие корабля. Был спокойный, ясный закат солнца. На фоне красного неба отчетливо вырисовывался отплывающий корабль с мельчайшими его деталями. Весь экипаж и все его пассажиры с обнаженными головами столпились на палубе. Царило безмолвие. Я никогда не видывал такого печального и в то же время полного надежд зрелища!
Но вот паруса взвились, и корабль тронулся… С лодок грянуло «ура». Оно было подхвачено на корабле и отдалось многократным эхом на воде. Сердце мое забилось, когда я услышал эти крики, увидел, как отплывающие махали шляпами и платками. И тут я заметил Эмилию. Она стояла возле дяди, прислонясь к его плечу. Старик указывал в нашу сторону, и она, найдя нас, помахала на прощанье мне рукой. Эмилия! Прелестный поникший цветок! Прильни доверчиво своим разбитым сердцем к тому, кто прильнул к тебе с великой любовью!
Стоя в розовом свете заката высоко на палубе, в стороне от всех, они, прижавшись друг к другу, торжественно уплывали вдаль…
Когда мы пристали к берегу, ночь уже спустилась на холмы Кента. Мрачная ночь воцарилась и в моей душе.
Глава XXIX
ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Надо мной спустилась ночь, длинная и мрачная, тревожимая призраками обманутых надежд, многих дорогих воспоминаний, многих ошибок, многих бесплодных сожалений и горестей.
Я уехал из Англии, даже тогда еще не сознавая вполне, как тяжел был удар, обрушившийся на меня. Я покинул всех, кто был дорог мне, и отправился путешествовать. Мне казалось, что горе позади, что я уже справился с ним. Подобно тому, как человек, смертельно раненный на поле сражения, в первую минуту едва замечает, что он ранен, так и я, очутившись один со своим недисциплинированным сердцем, не отдавал себе отчета в том, как тяжко оно ранено, какая борьба с ним предстоит мне. Сознание этого явилось у меня не вдруг, а мало-помалу, так оказать, по крупинкам. Чувство одиночества, с которым я уехал за границу, все росло и углублялось с каждым часом. Вначале то, что я переживал, мне казалось только тяжелым горем по умершей жене; ничего другого я не различал в своей душе. Но как-то незаметно я стал сознавать, что лишился и любви, и дружбы, и участия. Все было разбито: мои юные надежды, моя первая любовь, весь воздушный замок моей жизни; а вместо всего этого передо мной до самого горизонта простиралась безотрадная пустыня.