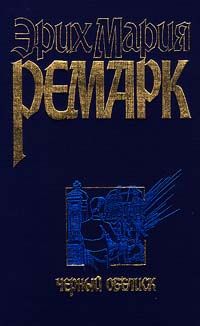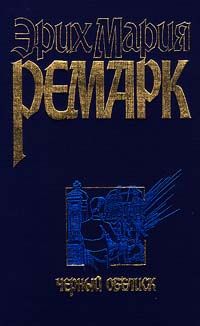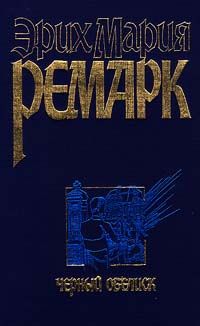— Не сдавайся, Бодо, — говорю я.
— Не беспокойся! Выстоим до последнего человека.
Полицейские возвращаются и арестовывают кого-то из вторых теноров. Пива у нас больше нет, и мы пускаем в дело водку. Через десять минут поют уже одни только басы. Они стоят, не глядя на то, как арестовывают других. Я где-то читал, что моржи остаются совершенно равнодушными, когда охотники, нападая на стадо, убивают дубинками их соседей, — и я видел, как во время войны целые народы вели себя совершенно так же.
Проходит четверть часа, и из всех певцов остается один Бодо. Потные, разъяренные полицейские прибегают галопом в последний раз. Они становятся по обе стороны Бодо. Мы наблюдаем за ходом событий. Бодо поет один.
— Бетховен, — кратко заявляет он и опять жужжит, как одинокая музыкальная пчела.
Но вдруг нам чудится, что издали ему аккомпанируют эоловы арфы. Мы прислушиваемся. Это похоже на чудо, но ангелы действительно как будто подпевают ему. Ангелы поют первым и вторым тенором и двумя басами. Голоса ласково льются и зачаровывают Бодо; чем дальше мы идем, тем они становятся громче, а огибая церковь, мы уже различаем, что именно поют эти бесплотные летящие голоса: «О святая ночь, пролей…» На ближайшем углу нам становится ясно, откуда они доносятся: оказывается — из участка, где арестованные товарищи Бодо храбро продолжают петь, ничего не страшась. Бодо, как дирижер, входит в их толпу, точно это самая обыкновенная вещь на свете, и пение продолжается:
«Пилигриму дай покой…»
— Господин Кроль, что же это? — озадаченно спрашивает начальник охраны.
— Сила музыки, — отвечает Георг. — Прощальная серенада человеку, который уходит в широкий мир. Совершенно безобидное дело, и его следует поощрять.
— И все?
— И все.
— Но это же нарушение тишины и порядка, — замечает один из полицейских.
— А если бы они пели «Германия, Германия превыше всего»? Вы бы тоже сказали, что это нарушение тишины и порядка?
— Ну, то другое дело!
— Когда человек поет, он не крадет, не убивает и не пытается свергнуть правительство, — обращается Георг к начальнику. — Вы что же, хотите весь хор засадить, потому что он всего этого не делает?
— Гоните их в шею! — шипит начальник. — Только пусть ведут себя тихо.
— Они будут вести себя тихо. А скажите, вы не пруссак?
— Франконец.
— Я так и думал, — говорит Георг.
Мы стоим на вокзале.
Ветрено, перрон пуст, нет никого, кроме нас.
— Ты приедешь ко мне в гости, Георг, — говорю я. — Я все сделаю, чтобы познакомиться с женщинами твоих грез. Двух-трех я тебе непременно приготовлю к тому времени, когда ты приедешь.
— Я приеду.
Но я знаю, что он не приедет.
— Ну хотя бы твой смокинг, он тебя обязывает, — продолжаю я. — Где ты здесь можешь его надеть?
— Это верно.
Поезд прокалывает темноту двумя огненными глазами.
— Держи знамя высоко, Георг! Ты же знаешь — мы бессмертны.
— Верно. А ты не падай духом. Тебя так часто спасали, что ты просто обязан пробиться.
— Ясно, — отвечаю я. — Хотя бы ради тех, кто не был спасен. Хотя бы ради Валентина.
— Чепуха. Просто потому, что ты живешь.
Поезд с грохотом врывается под своды вокзала, как будто его ждут, по крайней мере, пятьсот пассажиров. Но жду один я. Нахожу место в купе и сажусь. Пахнет сном и людьми. Я открываю в коридоре окно и высовываюсь наружу.
— Если от чего-нибудь отказываешься, то не надо это терять совсем, — говорит Георг. — Так поступают только идиоты.
— Кто говорит о потере? — отвечаю я. Поезд трогается. — Ведь мы в конце все теряем, и мы можем себе позволить до этого побеждать, как делают пятнистые лесные обезьяны.
— Разве они всегда побеждают?
— Да, оттого что понятия не имеют о победе.
Колеса поезда уже катятся. Я ощущаю руку Георга. Она такая маленькая и мягкая, а во время драки возле уборной была изранена и еще не зажила. Поезд ускоряет ход, Георг остается, он вдруг кажется старше и бледнее, чем я думал, мне видна уже только его бледная голова, а потом не остается ничего, кроме неба и летящего мрака.
Я возвращаюсь в купе. В одном углу посапывает пассажир в очках; в другом — лесничий; в третьем храпит какой-то усатый толстяк; в четвертом, захлебываясь, выводит рулады женщина в сбившейся набок шляпке.
Я ощущаю мучительный голод печали и открываю чемодан, который положил на сетку. Фрау Кроль щедро снабдила меня бутербродами, их хватит до самого Берлина. Я стараюсь найти их, но не нахожу и снимаю чемодан. Женщина в сбившейся набок шляпке просыпается, бросает на меня злобный взгляд и тут же продолжает свои вызывающие рулады. Теперь я понимаю, почему сразу не нашел бутерброды: на них лежит смокинг Георга. Вероятно, он положил его в мой чемодан, когда я продавал обелиск. Я смотрю некоторое время на черное сукно, потом принимаюсь за бутерброды. Это вкусные, первоклассные бутерброды. Все пассажиры на миг просыпаются от запаха хлеба и роскошной ливерной колбасы. Но мне наплевать, я продолжаю есть. Потом откидываюсь на спинку сиденья и смотрю в темноту, где время от времени пролетают огни, думаю о Георге и о смокинге, затем об Изабелле, Германе Лотце, обелиске, на который мочились, а он в конце концов спас фирму, затем уже ни о чем.
Я больше не видел ни одного из этих людей. У меня не раз появлялось, желание съездить в Верденбрюк, но всегда что-нибудь да задерживало, и я говорил себе, что еще успеется, но вдруг оказалось, что успеть уже нельзя. Германия погрузилась во мрак, я покинул ее, а когда вернулся — она лежала в развалинах. Георг Кроль умер. Вдова Конерсман продолжала свою шпионскую деятельность и выведала, что Георг находился в связи с Лизой; в 1933 году, десять лет спустя, она доложила об этом Вацеку, который был в то время штурмбаннфюрером. Вацек засадил Георга в концентрационный лагерь, хотя прошло уже пять лет с тех пор, как мясник развелся с Лизой. Несколько месяцев спустя Георг там и умер.
Ганс Хунгерман стал оберштурмбаннфюрером и ведал в нацистской партии вопросами культуры. Он воспевал эту партию в пылких стихах, поэтому у него в 1945 году были неприятности и он потерял место директора школы; но с тех пор его притязания на пенсию давно государством признаны, и он, как бесчисленное множество других нацистов, живет припеваючи и даже не думает работать.
Скульптор Курт Бах просидел семь лет в концлагере и вышел оттуда нетрудоспособным калекой. Нынче, через десять лет после поражения нацизма, он все еще добивается маленькой пенсии, подобно другим бесчисленным жертвам нацистского режима. Он надеется, что ему наконец повезет и он будет получать семьдесят марок в месяц; это составляет около одной десятой той суммы, какую получает Хунгерман, а также около одной десятой того, что уже много лет получает от государства руководитель гестапо, организовавший тот самый концлагерь, где искалечили Курта Баха, не говоря уже о гораздо больших пенсиях, которые выплачиваются всякого рода генералам, военным преступникам и именитым партийным чиновникам.
Генрих Кроль прожил эти годы неплохо и очень этим горд, ибо видит в этом несокрушимость правового сознания нашего возлюбленного отечества.
Майор Волькенштейн сделал блестящую карьеру. Он вступил в нацистскую партию, участвовал в составлении законов против евреев, после войны на несколько лет притих, а теперь вместе с многими другими нацистами работает в министерстве иностранных дел.
Пастор Бодендик и врач Вернике долгое время прятали в доме для умалишенных нескольких евреев. Они поместили их в палатах для неизлечимых больных, обрили наголо и научили, как изображать из себя сумасшедших. Впоследствии Бодендик позволил себе возмутиться тем, что епископ, которому он был подчинен, принял титул государственного советника от правительства, считавшего убийство своим священным долгом, — и его загнали в небольшую деревушку.
Вернике сняли за то, что он отказался делать своим больным уколы, от которых те умирали. До своего ухода ему удалось переправить дальше евреев, укрытых им в доме для умалишенных. Его послали на фронт, и он был убит в 1944 году. Вилли погиб в 1942-м, Отто Бамбус — в 1945-м, Карл Бриль — в 1944-м. Лиза погибла во время бомбежки. Старуха Кроль тоже.
Эдуард Кноблох, несмотря на все, уцелел; он с одинаковой предупредительностью обслуживал в своем ресторане и правых и виновных. Его отель был разрушен, но потом отстроен заново. На Герде он не женился, и никто не знает, что с ней. И о Женевьеве я больше не слышал.
Любопытную карьеру сделал Оскар-плакса. Будучи солдатом, он попал в Россию и вторично стал комендантом кладбища. В 1945 году служил переводчиком в оккупационных войсках и, наконец, в течение нескольких месяцев — бургомистром Верденбрюка. Затем вместе с Генрихом Кролем опять начал торговать памятниками. Они основали новую фирму, и дело стало процветать, ибо в те дни люди нуждались в надгробиях почти так же, как в хлебе.