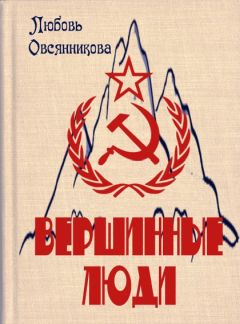Я уже упоминала, что смотреть, как она изучает себя перед зеркалом, как неосознанно нарабатывает индивидуальную палитру движений, было привычным для меня зрелищем и необходимыми для нее упражнениями, ибо наличие зрителя, которому доверяешь, стимулирует творческий процесс, и он расцветает по ходу действия совершенно непроизвольно.
Втайне мы мечтали стать актрисами. У нее было намного больше шансов осуществить свою мечту — она обладала уникальным голосом и яркой, выразительной внешностью. Что касается меня, то отсутствие данных к пению — доступное моему пониманию ее преимущество — делало меня едва ли не закомплексованной. Но кому запретишь мечтать втайне?
Зато у меня был талант перевоплощения. Пообщавшись с новым человеком раз-второй, я начинала повторять интонации его голоса, жесты и мимику. Уместнее сказать «ее», потому что мужское своеобразие, если я и замечала, нравилось мне, да и только. Женщин же я процеживала сквозь себя, аккумулируя богатство их внешних проявлений.
В этом смысле я, может быть, была более Читой, чем моя подружка, но, во-первых, у меня не было ироничного старшего брата, а во-вторых, до поры до времени я оставалась замухрышкой, которую окружающие почти не замечали. Истинно, шарм — женское свойство, в соответствии с этим оно у меня и проявилось тогда, когда я стала женщиной.
— Вы чувствуете, что вы — не такая, как все? — иногда спрашивают у меня теперь.
Я отдаю себе отчет, что я, правда, не совсем такая, как все, хоть и не уникальна в своей странноватости. Просто я занята другими, отличными от обыденных, хлопотами, ибо не все пишут стихи, книги и истории о своих земляках, не все изучают их родословные и стремятся оставить о них воспоминания. И многое другое в том же роде.
— Нет, — в этих случаях говорю я. — Потому, что я привыкла к себе.
В моих словах нет ни капельки лукавства или кокетства. Все самоощущения пришли ко мне из детства, а там у меня были более яркие подруги, и это не позволяло мне выделяться на их фоне.
И все же, согласитесь, мечта — это нечто действенное, это не образ, а процесс, в котором ты принимаешь участие. Так и я, иногда лицедействовала по наитию.
Устав от литературных упражнений, которыми я занималась с детства, от брожения по саду, от пощипывания то слив, то винограда, я прибегала к Люде и, конечно, усаживалась перед зеркалом, отлично зная, чем себя занять. Густота моих волос не поражала воображение. Правда, они интенсивно завивались от природы, но в сочетании с мягкостью давали не крупные и тугие локоны, обрамляющие лицо, а свисали вокруг него прядями, похожими на потерявшие упругость пружины. Волосы были ни длинны, ни коротки. Мама стричь их не разрешала в надежде, что они станут длиннее. Косички если и не уродовали меня, то и красоты не добавляли, «конский хвост» — модная тогда девчоночья прическа — «не стоял». И я, втихую обчекрыжив отчаянную челку, которая тут же образовала на верхней границе лба закрученные висюльки, носила их свободно зачесанными на косой пробор.
И все равно мои волосы умудрялись досаждать мне. Каждый день после сна они завивались по-другому, торчали в разные стороны, выставляя наружу ершащиеся концы, чего я терпеть не могла. Я увлажняла их, пытаясь слегка распрямить и зачесать приемлемым образом. Это удавалось, хотя и с трудом, ведь ни щипцов для горячей завивки, ни бигуди мы тогда не знали, обходились расческой да собственным кулачком, на который я приловчилась начесывать запутанные пряди, приводя их в порядок.
В школе мои трудности с волосами не понимались. Не понимались каждым по-разному: мальчишки меня не замечали, девочкам — в связи с таким отношением ко мне мальчиков — было все равно, а учителей они злили.
— Николенко, ты сегодня снова с новой прической? — осуждающе констатировала биологичка Раиса Валериевна, наша соседка по улице. — Когда ты прекратишь выделываться, ей-богу!
Обычно я отмалчивалась, но обиду за непонимание помнила долго.
Следовательно, экспериментировать перед зеркалом с прической не приходилось, ибо ее автором была не я, а моя упрямая природа. Я лишь пыталась вообразить, что будет, если поднять волосы с затылка, для чего запускала руки под нижние пряди и приподнимала их над плечами до уровня макушки. Взору открывался трогательный овал лица, особенно милый уморительной беззащитностью линий, шедших от ушей до чуть удлиненного подбородка. На боковых и нижних краях щек серебрилась больше ничем не проявляющаяся растительность. Мои щеки были похожи на молодые листья каштана, разве что цвет имели матово-персиковый и были более упруги.
Каким-то совсем другим становился рот, губы — верхняя поджата, а нижняя слегка вывернута — застывали в мимике завуалированного неприятия. Шея, не очень длинная, но тонкая, не вызывала претензий. Хорошо развитыми угловатыми плечами можно было бы гордиться, если бы я это понимала. Но, к сожалению, тогда мне нравились не прямые плечи, а покатые, как у Пушкинских красавиц. Фу, какая бяка это для меня теперь! Итак, я несказанно сочувствовала себе по поводу плеч, казалось, они проигрывают, контрастируя с шеей, пугливо прячущейся в ключицы, и это заставляло меня поспешно опускать волосы, словно это была спасительная завеса, за которой ютилась угловатость созревания.
Что еще? На меня смотрели — о, горе! — светлые глаза, невыразительность которых непременно надо было укрывать от стороннего взора. Серо-зеленые в коричневую крапинку, они иногда казались желтыми, а иногда — цвета молодой зелени, в зависимости от моего настроения. Но ни то, ни другое не спасало от необходимости не смотреть на собеседника, чтобы не выдавать ему столь странный цвет. Учителя, особенно женщины, за это не любили меня, приписывая черт знает, какое кокетство.
— Перестань стрелять глазами и смотри на меня спокойно! — требовала Татьяна Николаевна, учительница математики, если я шалила на переменах. — С тобой учитель разговаривает, а не мальчики щекочут по углам.
Это была, конечно, гадость, причем гадость вдвойне, учитывая, что я ее не заслуживала. Пару раз Татьяна Николаевна попыталась поставить мне заниженную оценку, но из этого ничего не вышло. Наши диалоги на уроках, когда она вызывала меня к доске, превращались в поединки, за которыми с удовольствием наблюдал весь класс, замирая на время. Кто знает, внимание ли учеников или ее внутренняя порядочность приводили к тому, что она не продолжала корриду бесконечно, а спокойно ставила пятерку и при этом не куксилась от негодования. Я лично отдаю предпочтение второму объяснению. Я любила Татьяну Николаевну как учителя, она прекрасно знала предмет и была талантливым методистом, а это дорогого стоит. За это можно было снести не только раздражение и хамство. Нельзя же от одного человека требовать всего сразу. Большинство наших учителей были милыми людьми, но и только, в остальном же — бездарными и безликими. Я позабыла их имена. Со временем Татьяна Николаевна стала относиться ко мне ровно и доброжелательно. Как это случилось, неважно. Это другая история, а я вам рассказываю не всю историю моей жизни.
Сидя у Люды перед зеркалом я напрягала язык и подставляла его под нижнюю губу, выдувая изнутри холмик между губой и подбородком, где была природная впадинка, требующая исследования. Но там ничего не оказывалось, кожа была гладкой, без признаков пор, как и на щеках. Повторив прием в отношении уголков губ, я получала тот же результат. Приходило решение измерить длину языка. Это было просто. Если я доставала высунутым и изогнутым вверх языком кончик носа, то у меня все в порядке. Почему-то считалось, что длинный язык — это признак породы. Нет, у меня все было не так, и кончик носа языком я не доставала.
Я брала зеркало в правую руку, отводила ее как можно дальше и принималась изучать свой облик со стороны. Да-а, довольно задиристая внешность, ехидненькая. А что придавало мне такой вид, определить не удавалось. Дело было не в лице, а в его выражении, потому что наш классный руководитель Петр Вакулович, едва войдя в класс, останавливал взгляд на мне и подозрительно присматривался, щуря глаза.
— Садитесь! — гремел он.
А потом, не отрывая от меня взгляд, выяснял с угрозой в голосе:
— Николенко, вы снова со мной не согласны?
— Согласна, — честно заверяла я, понятия не имея, на что он намекает.
Так продолжалось до самого окончания школы. И теперь я иногда пытаюсь порасспросить его, что он тогда имел в виду, да он уже не помнит того — стар стал, глуховат. Да и на что мне это теперь?
Рассматривая свое бледное отражение с чуть наметившимися бровями, жиденькими короткими ресницами, с впалыми щечками, не знавшими румянца и искусительных румян, я даже не огорчалась, я недоумевала: что во мне заводит учителей? Нос — продолговат и умеренно тонкий с четко ограненным кончиком — был хорош. Однако ему не хватало хоть маленькой горбинки, чтобы считаться по-настоящему красивым. И все же нос был моей гордостью. Нежные крылья так славно довершали его скульптурность, как несколько асимметричная нижняя грань переборки сообщала впечатление гармонии, а прозрачный тупой кончик — утонченность всему облику. Ушки. Ушки были маленькими и ладно посаженными близко к голове. Их раковинки мне нравились. Да что толку, если их скрывали распущенные волосы. Да, нос — это серьезно, но даже в сочетании с ушками, хоть бы они и были открытыми, он не может изменить, думала я, общее от меня впечатление.