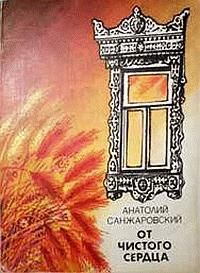Ознакомительная версия.
Как же!
Раз головушка в кустах, никакая лесина не посмеет накрыть тебя, до смерти уверена, что беда тебе и пальчиком не погрозит.
Ан нет…
Судьба всё ж уронила сосну мне, непутёвой бригадирке, прямо на окаянную голову – куцапым суком в самый затылок.
Вырвали сук из головы. Волоса, как потом говорили мне, не видать: всё кровь.
Что делать?
Делянка наша у чёрта за межой, ни до какого селенья за день и на аэроплане не докувыркаешься, а докувыркаешься – утрёшь нос и назад: война, лекарствия да врачей и на худой помин нету.
Тамошняя бабуша одна – а дай ей Бог доли! – вспомнила старое средствие, навела на погожий ум.
Выплеснула из ведра воду, скомандирничала:
– А ну-ка, девонюшки, а ну-ка, девьё, скорей давай по порядку садись да дóйся!
Напруденили девушенции пальца так на два выше против половины ведра.
Воткнули меня балбесной головушкой в то ведро и ну промывать.
А соль, заело. Я в память и вернись.
Гляжу, а на всем разбросаны взбитые перины снега, гляжу и дивлюсь, будто впервые вижу те перины, будто впервые вижу и инёвые кружева, и в наледи хвоинки…
С неделю провалялась я в бараке чуркой.
Колюшок надо мной всё власть держал: он мне и доктор, он мне и нянечка.
То воды свежей принесёт, то поесть что там подаст, то печку в мороз истопит среди дня, и у меня до самого уже до вечера живёт тепло.
Пока болела – отдохнула. Как же в лесу сытно спится!
Поотлежалась, оклемалась – Бог миловал, никаких так заражений у меня не завязалось – с грехом пополам поднялась да и пошла помаленьку снова валить лес.
Да поумней уже.
Не летишь теперь прятать пустую голову в куст, а стоишь и подрезанное дерево правишь куда на простор, где мелколеса поменьше, клонишь и смотришь, что оно да как.
Всё ж та сосна голосу мне поубавила.
Стала я говорить тише, с малым как вроде хрипом, а так всё другое что ничего, без повредительства. Крепка так, жива, одно слово.
Ищи добра на стороне,
а дом люби по старине.
Всего половину года похабил немец нашу сторонушку.
Как только выгнали пакостника в толчки, поворотили мы оглобельки под стон февралёвой пурги к стенам к своим родимым.
Идем с Курбатова, со станции…
И чем ближе Острянка, всё живей, внахлестку, перебираем в смерть усталыми ногами; всё чаще не одна, так другая сорвётся с ходу на бег, а за одной овцой и весь калган молча понесся вприскок, скользя и падая.
Добегаем до возвышенки, откуда наихорошо видать Острянку.
Господи! А где ж Острянка?
Избы где?…
Скачем глазами из края в край… Нету…
Глядим друг на дружку – заговорить никто смелости в себе не сыщет. В глазах у всех одна надежда: «Может, снегом забило? За большим снегом не распознать…»
Упрели бежать.
Бредем как пьяные, будто только вот что вошли в крепкий градус. А сами боимся увидать то, про что каждая про себя уже знала и знала, пожалуй, ещё там, в вологодских лесах.
Вошли вроде в проулок. Но где хаты?
– А во-о-он катушок, – тычет зорковатая Нинушка в горький сараишко, такой плохущой, – ну тебе честным словом подпоясан, тем и держится. – Живой катушок. К кровельке пристёгнут кривой столбок дыма.
– А в соседях с катушком, кажись, землянка… – надвое, с сомненьем говорит Манюшка и из-под руки вглядывается в свою находку.
– И рядом…
– И вон ещё землянка…
– И вон…
Понúжала Острянка наша.
Ушла, бездольная, в земляночные норы…
Минутой потом, как вошли в серёдку села, нас завидели. Завидели и в слезах посыпали к нам из землянок.
Обнимаются, жалятся:
– Чёрно было под немцем…
– Хлеб заставлял жать ножом и по соседским деревням…
– Живность всю полопал…
– Избы все огнем с земли-корня смёл…
– А ваша, – говорят мне, – в полной невредимости. На всю Острянку не одна ль и сбереглась.
– Ка-ак?
– Да как… Наступали наши, ядрёно так ломили с лога. Вражина и засуматошься, как мышонок в подпаленном коробе. Наши напирают с одного конца, немец, понятное такое дело, отбегает к другому. Пятится раком, а пакости остатние кладёт-таки. Как отдать какую хату – цоп из огнемёта в соломенную стреху – и за соседнюю избёшку. Прижимает отдать и ту – клюнет огнем и ту… За каждую хатку цеплялся супостат – каждую хатёнку подымал к небу пламенем. А что погорело острянцев живьём по своим же углам!.. Выйти не выйдешь. Прибьеть, сиди… Дед Микиток сгорел, бабка Лизавета сгорела, Витюк Сотников сгорел, Валя Мазина и Тоня Диброва сгорели, Федя Ветлов – помнишь, рисовал ещё тебя мальчишечка? – сгорел, Танька Филимониха, Таня Ширшова… Валёна Гусева… Ланюшка Заёлкина… Поди перечти всех… Как отступал через всё село, так от всех хат один пепел и покинул. А ваша стояла от порядка в глубинке, вроде отошла ближе к огородам, вроде как спряталась за садком. В сумятице и миновала её огнёва милость…
Подходим – в самом деле стоит!
Труба, крыша, стены – всё на месте, только двери-окна враспашку.
Добежала я до крылечка – нету моих сил в хату войти… В слезах упала в высокий снег на порожках.
Манюшка с Нинушкой – они первые шли следом – взяли под руки, ввели.
– Ма, ну чего вы запутались в слезах? Мы ж дома! Радуваться старайтеся!
– Ста… ра… юсь… – говорю, а у самой никакого сладу со слезами.
Смотрели они на меня, смотрели…
Попадали мне на грудь да как завоют себе…
И не скажу, сколько мы так, гуртом, прокричали, как вдруг все три поворотились на грохот.
Глядим, у раскрытого окна, на полу, сидит на пятках Колюшок.
В поднятой руке топор вверх острым.
Не успела я и спросить, чего это он затеял, как он шибко стукнул обухом по гвоздю, что торчал из приподнятой половой доски, стукнул ещё, потом ещё, ещё. Доска уже не горбилась, легла в одну ровность со всеми досками в полу.
Колюшок деловито перешёл в угол, где так же молчаком, с азартом заходился скалывать ледяную корку.
В каком-то необъяснимо весёлом, светозарном удивленье Маня с Ниной глядели на меньшака брата.
Стук его топора не только остановил наши слёзы. Он сделал ещё что-то и такое, чему я не знаю названья.
В душу вошла какая-то высокая ясность, вошла сила, и я, снежная песчинка, кою в такой свирепой ярости вертели лютые вихри войны, разом почувствовала себя твёрдо на ногах, почувствовала Хозяйкой – вернулась в мёртвый отчий дом ладить человеческую жизнь.
Я расправила плечи, огляделась орлицей вокруг.
Стены в чёрном инее были пусты. Лишь в простенке между окнами во двор уныло висели наши ходики – остановились Бог весть когда в половине шестого. Из них стекала в наледи цепочка до самого пола.
Я размашисто пошла к часам.
«Вот и вернулось наше время! – сказала про себя ходикам. – Стучите наше время! Считайте наш век!»
Я поправила цепочку (на конце её была стоймя примёрзлая к полу гирька), толкнула маятник.
Часы пошли.
Без сговорки Маня с Ниной разом захлопали, когда увидали, как маятница[5] спохватилась в обстоятельности распохаживать из стороны в сторону.
– Не в клубе на концерте! – шумнула я на дочек.
Наладилась я было построже прикрикнуть, да строгость из голоса выпала, говорю со смешком:
– Давайте-ка лучше в катух за кизяком. Может, что и оставил незваный гость.
– Посмотрим!
Девчата живо уборонились из хаты, весело простучали по скрипучим половицам в сенцах.
Звуки шагов примёрли.
Взялась я закрывать пустые, без стекол, окна. Всё, думаю, меньше холода будет.
Закрыла – не потеплело, жар костей не берёт. Надо из тряпья чем завесить.
Стою гадаю, чем же это мне завесить, ан объявись тут Зина с Тамарой, наконец-то распростились до завтрева со своими товарками; постояли на порожке, посмотрелись и пошли тишком (крайком глаза вижу) прикладываться щеками к дверям, к стенам, к печке… Здоровкаются…
Шум из сеней:
– Отворяйте! Лето несём!
Зина открыла.
За живыми горками сухого с июня, духовитого кизяка не видать ни Мани, ни Нины.
В полной аккуратности сложили они кизяк к печке в чёрном инее. Нина и говорит мне (с лавки я утыкала в верх окна потёртую тканьёвую одеялку):
– Ну, ма, похоже, фрицу и без нашего кизяка было жарко… И плиточки не тронул!
– Ё-моё, куда ж… Отправляючись на вечный упокой, истопочки с собой не ухватишь.
С этими словами слезла я с лавки, стала растапливать.
Я почему-то думала, с печкой, с родимой мамушкой, беда сколько попыхкаешь, покуда не загорится. А повернулось всё куда как просто.
Подвела спичку к пуку соломы – всё разом и заходило пламенем.
На миг мне почудилось, что стылая, ледяная наша печка, на которую долгие, беспримерно долгие большие холода набросили кружево из чёрного инея, невозможно как обрадовалась огню, задышала, благостно заворчала, согреваясь: в ней на доброй сотне ладов заговорила, запела светлая радость тепла.
Мы все прижались к печке руками; никто ничего не говорил; всяк слушал голос огня, слушал голос, Бог знает когда умолкнувший в этой хате…
Ознакомительная версия.