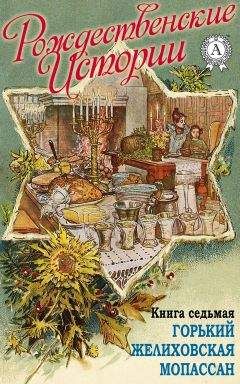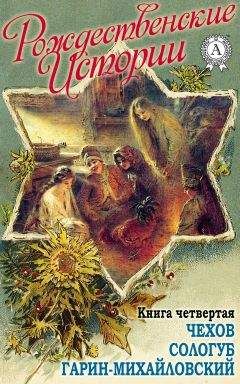Отчасти это была правда. Старшая сестра моя, едва дожив до шестнадцати лет, во всём околотке приобрела славу какой-то полоумной, беспардонной сорвиголовы. И умерла-то она по своей вине. Страстная охотница до лошадей и верховой езды, она, в отсутствие отца, выдумала себе забаву: сама заводских лошадей объезжала. Ну и не совладала с горячим конём! Сбросил он её на землю, на всём скаку, и убилась, бедняжка, на месте… Мать чуть не умерла сама от горя, но за ум не взялась – с сыном не стала строже; а напротив, вечно из-за него поднимала ссоры с отцом, крик и брань с няньками, гувернёрами и учителями и положительно в ад превратила семейную жизнь своего мужа. Наконец и сын несдобровал: по двенадцатому году он курил и кутил и до того извёлся, что душа в теле едва держалась. А потом вздумалось ему, позднею осенью, когда уж пруды салом затягивало, искупаться; простудился, схватил горячку и умер, едва не уморив и родителей своею смертью. Мать не вынесла этого горя, заболела душевною болезнью и года через три скончалась в жестоких страданиях.
Вторично мой отец женился нескоро, лет через десять, и совершенно неожиданно для самого себя. Он так исстрадался в семейной жизни, что не хотел и думать о втором браке.
Случилось ему приехать по делам наследства в этот самый город, где жили мы теперь. Надо сказать, что город и губерния эти искони были гнездом всех князей Рамзаевых; здесь был старый дом бабушки Коловницыной, где отец мой провёл всё своё детство и первое время женитьбы, живя у неё и у своего деда. Возвратясь на родину, он снова поселился в этом доме, но долго не нажил. Его мучили там воспоминания, отравлявшие счастье вторичного его брака, в который он вступил, как я уже сказала, нежданно-негаданно, тотчас по приезде сюда. За десять лет вдовства отец мой привык к переменам, к кочевой жизни; года через три после моего рождения, не довольствуясь постоянными поездками заграницу, он вздумал совсем уехать; и несмотря на печаль матери моей и нежелание её экспатриироваться, дом и поместья наши здесь были проданы, а семейное гнездо перенесено в подмосковные вотчины Коловницыных. Там я взросла, там умерли мои родители, там я вышла замуж, и вот теперь, по службе мужа, пришлось мне снова водвориться на прадедовском пепелище.
Дом, где я родилась, интересовал меня чрезвычайно, не умею сказать почему, так как воспоминаний о нём я никаких не могла сохранить; разве по той особой привлекательности, какую сообщили ему рассказы няни Мавры Емельяновны, да ещё одной старой тётушки, когда-то гостившей здесь в нашей семье и упорно утверждавшей, будто отец мой оттого в нём не ужился, что имел там какие-то «видения»…
– Твой отец был оригинал и фантазёр! – говорила мне эта допотопная тётушка. – Il était d'humeur fantasque et portè au mysticisme; но не он один, другие видывали в вашем доме странные явления… C'était une maison hantée, il n'y a pas a y redire!
Несмотря на эти предостережения, очень может даже быть, что именно вследствие их, я ещё на дороге мечтала, что найму этот дом и поселюсь в прадедовских покоях. Но это оказалось невозможным. Новые хозяева давно в нём не жили и в течение тридцати лет не ремонтировали его. Он стоял холодный, заплесневелый, наглухо заколоченный и в немом запустении доканчивал свой долгий век… При одном взгляде на него я поняла, что жить в нём невозможно, и втайне подумала, что если могут быть дома «посещаемые», как о нём утверждала тётушка, то именно теперь в нём удобно расхаживать на просторе посетителям-привидениям. Громко я не высказала своей мысли, зная, что муж мой, человек практический и реалист по образу мыслей, не любит таких фантазий…
Однако, дня два тому назад, увидав сторожа у ворот этого дома, я не воздержалась от желания хоть взглянуть на старые комнаты, в особенности на детскую, которую, казалось мне, я ещё помнила…
В самом деле, в ней была оригинальная печь с колонками и выпуклыми изразцами, на которую я взглянула, как на милое воспоминание детства. С неизъяснимым чувством любопытства, печали и неопределённого страха, пошла я по тёмным теперь, запущенным покоям, с покосившимися потолками и скрипучими половицами, со старинною мебелью, сложенною и сдвинутою в бесформенные груды. При виде этих кресел, вычурных столиков и бюро с выпуклыми крышками, со множеством отделений и ящиков, у меня глаза разбежались…
– Не продаётся ли эта мебель? Нельзя ли купить что-нибудь из неё? – спросила я сторожа.
– Ой, нет, сударыня! – отвечал тот. – Это всё заповедные вещи, господами отобранные, которые я должон беречь… Для них больше и печи протапливаю.
– Жаль!.. Я бы купила хоть их. Дом разваливается – не то бы я его наняла! Да и мебель всё равно, даром пропадёт… Скажите, не знаете ли вы: это всё ваших, теперешних господ вещи или ещё между ними старинная, Рамзаевская мебель? От старых владельцев не осталось ли в доме чего?..
– Не могу доложить вам. Может что и найдётся, да я не знаю, потому я при доме не боле годов пяти состою… А вот, ежели угодно вашей милости, извольте у купца Барского в складах мебельных побывать. У него там этакой старины до пропасти!.. И наша барыня, когда напоследок отсюда уезжала, тоже очень много чего ему продала и на комиссию также отдали, для продажи. А отселева никак невозможно!.. По той ещё причине, что я господ ожидаю.
– Как?.. Неужели они хотят жить в этой развалине?
– Нету-с, не жить; а прибудут сюда молодые господа отобрать: что в деревню отошлют, а что может сами продавать станут, не знаю. А дом никак снести желают, по ветхости, и новый строить будут.
Юрий Александрович спешил домой, к своим занятиям; назвал меня фантазёркой и мечтательницей и не дал даже времени всё осмотреть в моём старом доме…
– Неужели ты не боишься, что от сотрясения половиц под нашими ногами на голову нам свалится балка? Или мы сами сквозь пол провалимся в подвал, наподобие настоящих привидений? – смеялся он. – По моему это весьма вероятное и единственное «проявление» и «посещение», которое может нас перепугать в этой сгнившей скорлупе… И признаюсь: я страшусь его гораздо более знакомства с тенью одного из наших предков.
Я согласилась, что самим провалиться или на голову принять потолок несколько страшней, чем увидать привидение; а всё-таки вздохнула о старом доме, выходя из него и долго оглядывалась на его пожелтевшие от лет деревянные стены, сожалея о том, что скоро их снесут, и с ними исчезнет последняя память о старом роде князей Рамзаевых в этих местах.
Всё это я вспомнила теперь, входя, после нашего бурного обеда, к себе в комнату, при взгляде на мой старомодный диван-кушетку. Ведь и он принадлежал «старому дому». По крайней мере купец Барский, у которого я его разыскала по указанию сторожа, клялся мне, что купил его ещё при распродаже Коловницынских вещей, забракованных новыми владельцами нашего дома. Юрий был убеждён, что это невинная выдумка старого торговца, смекнувшего из наших разговоров в чём дело и желавшего повыгоднее сбыть товар, считавшийся никуда не годным старьём. Но я склонна была верить, что Барский не лгал. Мне было приятно думать, что я нашла вещь, принадлежавшую искони моей семье; что на этом диване сиживали деды мои и бабушка, и быть может отец мой игрывал, будучи ребёнком…
Чем более я вглядывалась в мою кушетку, тем более она мне нравилась. Её мягкие, спокойные изгибы так и манили прилечь… И я прилегла, попробовала свой диван и очень уютно свернулась в глубине его, на атласистых, нежных подушках. Так уютно и спокойно, что мне уж и встать не захотелось. Я только потянулась, улыбаясь от удовольствия, когда Юрий вошёл ко мне с сигарой и чашкой кофе, которые вероятно успокоили и его расходившиеся нервы.
Он сел возле в кресло, тоже улыбаясь, и сказал по обыкновению с лёгкою иронией в тоне:
– Ага!.. Первый литературно-мечтательный кейф на допотопном самосоне?.. Прекрасно!
«Самосон» было у нас посвящённое слово; термин прилагавшийся к спокойным диванам, на которых удобно было не только сидеть, но и спать, потому что они «сами сон нагоняли».
– Да, – отвечала я. – Лучше этого самосона у меня никогда не бывало!
– Ну, а где ж другой атрибут необходимый для твоего счастья? – продолжал посмеиваться Юрий. – Где книга в парижской жёлтой обёртке, со свежеизмышленными бреднями Золя или Флобера?..
– Что ты, Бог с тобой! – протестовала я. – Уж назвал бы Доде, моего единственного избранника в нынешней французской литературе!.. Да я сегодня и того читать не стану. Ты забыл, что сочельник…
– Да, да! Твоя правда. Я вот отдохну полчасика, – устал с разборкой книг! – а потом съездим ко всенощной. Хотелось бы лоб перекрестить, хоть под великий праздник; а то после, как втянешься в службу, так уж некогда будет в церкви ездить, пожалуй!.. Ох! – потянулся он и сладко зевнул, – тяжела ты шапка Мономаха!.. Дела много, а лень одолевает!
– Тебе-то уж грешно себя в лени упрекать! Что ж мне про себя сказать?.. Я и встаю позже, и службы у меня нет, а вот тоже к самосонам большое пристрастие имею! – засмеялась я.