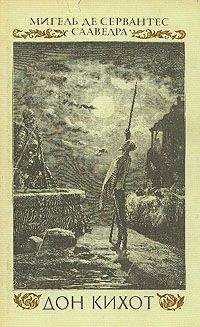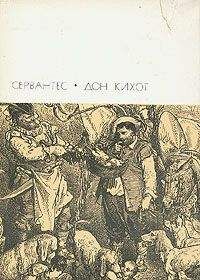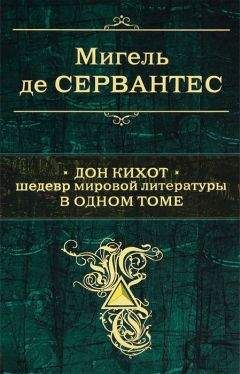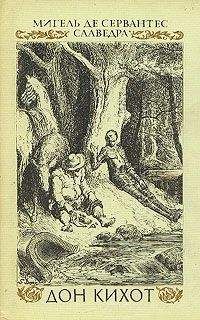– Помилуйте, сеньор, что вы говорите! – воскликнул мальчуган. – Мой хозяин – вовсе не рыцарь, и ни к какому рыцарскому ордену он не принадлежит, – это Хуан Альдудо, богатый крестьянин из деревни Кинтанар.
– Это ничего не значит, – возразил Дон Кихот, – и Альдудо могут быть рыцарями. Тем более что каждого человека должно судить по его делам.
– Это верно, – согласился Андрес, – но в таком случае как же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается платить мне жалованье, которое я заработал в поте лица?
– Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь? – снова заговорил сельчанин. – Сделай милость, пойдем со мной, – клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их ни развелось на свете, что уплачу тебе, как я уже сказал, все до последнего реала, с радостью уплачу.
– Можно и без радости, – сказал Дон Кихот, – уплатите лишь ту сумму, которую вы ему задолжали: это все, что от вас требуется. Но бойтесь нарушить клятву, иначе, клянусь тою же самою клятвою, я разыщу вас и накажу: будь вы проворнее ящерицы, я все равно вас найду, куда бы вы ни спрятались. Если же вы хотите знать, от кого получили вы этот приказ, дабы тем ревностнее приняться за его исполнение, то знайте, что я – доблестный Дон Кихот Ламанчский, заступник обиженных и утесненных, засим оставайтесь с богом и под страхом грозящей вам страшной кары не забывайте обещанного и скрепленного клятвою.
С этими словами он пришпорил Росинанта и стал быстро удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверившись, что он миновал рощу и скрылся из виду, повернулся к слуге своему Андресу и сказал:
– Поди-ка сюда, сынок! Сейчас я исполню повеление этого заступника обиженных и уплачу тебе долг.
– Я в этом нимало не сомневаюсь, ваша милость, – заметил Андрес. – В ваших же интересах исполнить повеление доброго рыцаря, дай бог ему прожить тысячу лет; он такой храбрый и такой справедливый, что, если вы мне не уплатите, клянусь святым Роке, он непременно вернется и приведет угрозу свою в исполнение.
– Я тоже в этом не сомневаюсь, – сказал сельчанин, – но я так люблю тебя, желанный мой, что желаю еще больше тебе задолжать, чтобы затем побольше заплатить.
Тут он схватил мальчугана за руку и, снова привязав его к дубу, всыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив.
– Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Андрес, посмотрим, как он за вас заступится, – сказал сельчанин. – Полагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно обидел, – у меня чешутся руки спустить с вас шкуру, чего вы как раз и опасались.
Однако ж в конце концов он отвязал его и позволил отправиться на поиски своего судьи, дабы тот претворил в жизнь вынесенное им решение. Пастушонок с кислою миною удалился, поклявшись сыскать доблестного Дон Кихота Ламанчского и во всех подробностях рассказать ему о том, что произошло, дабы он принудил хозяина заплатить сторицей. Как бы то ни было, Андрес ушел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем временем доблестный Дон Кихот, заступившись таким образом за обиженного, в восторге от этого происшествия, которое показалось ему великолепным и счастливым началом рыцарских его подвигов, и весьма довольный собою, ехал к себе в село и вполголоса говорил:
– По праву можешь ты именоваться счастливейшею из всех женщин, ныне живущих на земле, о из красавиц красавица Дульсинея Тобосская! Судьбе угодно было превратить в послушного исполнителя всех прихотей твоих и желаний столь отважного и столь славного рыцаря, каков есть и каким будет всегда Дон Кихот Ламанчский; всем известно, что только вчера вступил он в рыцарский орден, а сегодня уже искоренил величайшее зло и величайшее беззаконие, какие когда-либо вкупе с жестокостью творила неправда, – ныне он вырвал бич из рук этого изверга, что истязал ни в чем не повинного слабого отрока.
Тут он приблизился к тому месту, где скрещивались четыре дороги, и воображению его тотчас представились странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавливаться на распутье и размышлять о том, по какой дороге ехать; и в подражание им он тоже постоял, постоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился на Росинанта, Росинант же не изменил первоначальному своему намерению, то есть избрал путь, который вел прямо к его конюшне. Дон Кихот проехал уже около двух миль, когда глазам его открылось великое скопление народа: как выяснилось впоследствии, то были толедские купцы, направлявшиеся за шелком в Мурсию. Их было шестеро, и ехали они под зонтиками в сопровождении семи слуг, из коих четверо сидели верхами, а трое шли пешком и погоняли мулов. Завидев их, Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидает новое приключение; между тем он задался целью по возможности действовать так, как действуют в романах, потому-то и почел он уместным одно из подобных деяний совершить теперь же. Того ради он вытянулся на стременах, сжал в руке копье, заградился щитом и в ожидании странствующих рыцарей, за каковых он принимал и почитал толедских купцов, с крайне независимым и гордым видом остановился на самой дороге; когда же те подъехали к нему так близко, что могли видеть и слышать его, Дон Кихот принял воинственную позу и возвысил голос:
– Все, сколько вас ни есть, – ни с места, до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанчская императрица Дульсинея Тобосская!
При этих речах и при виде произносившего их человека столь странной наружности купцы остановились; и хотя по его речам и наружности они тотчас догадались, что он сумасшедший, однако ж им захотелось выведать у него исподволь, зачем понадобилось ему признание, которого он от них добивался, и тут один из купцов, склонный к зубоскальству и очень даже себе на уме, молвил:
– Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину.
– Если я вам ее покажу, – возразил Дон Кихот, – то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на защиту, а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд. Выходите по одному, как того требует рыцарский устав, или же, как это водится у подобного сорта людишек, верные дурной своей привычке, нападайте все вдруг. С полным сознанием своей правоты я встречу вас грудью и дам надлежащий отпор.
– Сеньор кавальеро! – снова заговорил купец. – От имени всех присутствующих здесь вельмож я обращаюсь к вам с покорной просьбой: чтобы нам не отягощать свою совесть свидетельством в пользу особы, которую мы сроду не видели и о которой ровно ничего не слыхали, и вдобавок не унизить подобным свидетельством императриц и королев алькаррийских и эстремадурских, будьте так любезны, ваша милость, покажите нам какой ни на есть портрет этой особы, хотя бы величиною с пшеничное зерно: ведь по щетинке узнается свинка, тогда мы совершенно уверимся, почтем себя вполне удовлетворенными и, в свою очередь, не останемся у вас в долгу и ублаготворим вашу милость. Признаюсь, мы и без того уже очарованы ею, и если б даже при взгляде на портрет нам стало ясно, что упомянутая особа на один глаз крива, а из другого у нее сочатся киноварь и сера, все равно в угоду вашей милости мы признаем за ней какие угодно достоинства.
– Ничего такого у нее не сочится, подлая тварь! – пылая гневом, вскричал Дон Кихот. – Ничего такого у нее не сочится, говорю я, – это небесное создание источает лишь амбру и мускус. И вовсе она не крива и не горбата, а стройна, как ледяная игла Гуадаррамы. Вы же мне сейчас заплатите за величайшее кощунство, ибо вы опорочили божественную красоту моей повелительницы.
С этими словами он взял копье наперевес и с такой яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, что если бы, на счастье дерзкого купца, Росинант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось. Итак, Росинант упал, а его хозяин отлетел далеко в сторону; хотел встать – и не мог: копье, щит, шпоры, шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаясь подняться, он все еще кричал:
– Стойте, жалкие трусы! Презренные холопы, погодите! Ведь я не по своей вине упал, а по вине моего коня.
Тут один из погонщиков, особым смирением, как видно, не отличавшийся, заметив, что потерпевший крушение продолжает их поносить, не выдержал и вместо ответа вознамерился пересчитать ему ребра. Он подскочил к нему, выхватил у него из рук копье, разломал на куски и одним из этих кусков, невзирая на доспехи, измолотил его так, точно это был сноп пшеницы. Хозяева унимали погонщика и уговаривали оставить кавальеро в покое, но погонщик, войдя в азарт, решился до тех пор не прекращать игры, пока не истощится весь его гнев; он хватал один кусок копья за другим и обламывал их об несчастного рыцаря, растянувшегося на земле, – рыцарь же, между тем как на него все еще сыпался град палочных ударов, не умолкал ни на секунду, грозя отомстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь за душегубов.