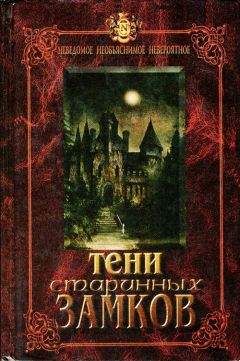Что касается жилищ, посещаемых привидениями — не говоря уже о тех, что пользуются в этом отношении особой славой, — то нет на Руси дома, который, разумеется по мнению простолюдинов, не имел бы своего домового и, следовательно, жители которого не могли бы рассказать о целом ряде трепещущих ночных драм, совершающихся во мраке. Это действительно другая, ночная жизнь природы, жизнь, которая в полном разгаре тогда, когда прекращается движение и шум жизни дневной, жизни при солнечном свете. Сколько таких рассказов слыхали мы в детстве, в длинный осенний вечер, сидя возле оракула домашнего очага, старушки няни. Так, в нашем старом доме, в немецкой слободе,[3] водились привидения, но на то имелись достаточные причины: дома эти были перестроены из обгоревшей кирхи, от которой уцелели толстые, массивные стены. В подвале еще попадались остатки древних могильных камней, а где же и показываться привидениям, как не на кладбище? Зато самой мне не раз случалось слышать от старой няни рассказы, как в полночь в большой зале показывались немецкие пасторы в черной одежде с белыми окраинами, со свечами в руках или с книгой под мышкой. Походив по залу, они торжественной процессией отправлялись в сад, всегда через один и тот же угол комнаты, и исчезали у окон подвала. Но тут же, на дворе, стоял флигель совершенно новой постройки. Он был разделен на две половины: в одной помещалась людская и кухня, в другой жили дети с няньками и мамками. В нем также происходили сцены, где действующими лицами были жители нездешнего мира. «Однажды, — так мне рассказывала участница происшествия, умная, по-своему довольно образованная, или, как они выражаются, бывалая, женщина, — дети давно уже почивали, и мы все улеглись около них на полу. А ночь была довольно темная — только-только можно было различить человека. Мне что-то не спалось и вздумалось взглянуть в окна, не затворенные ставнями. Смотрю — в комнату глядит кто-то высокий и страшный, голова огромная, а лицо или морда какого-то животного, разобрать нельзя. Глаза сверкают! Так у меня сердце и замерло. Лежу да смотрю — до смерти страшно, а глаз оторвать не могу! Вот и зову тихонько: „Нянюшка-голубушка, взгляни в окно, что это там такое?“ А няня мне: „Молчи, девка, ни слова не промолвь, а закрой глаза да сотвори молитву!“ Параша лежала возле меня, и она: „Матушка, Авдотья Сергеевна, ведь и я тоже вижу. Господи, что это с нами будет!“ — „Говорю тебе, дура, молчи, не тронь! С нами крестная сила! Не дразни его!“ Мы с Парашей послушались, закрыли глаза — лежим. Под конец уж невмоготу стало, в пот бросило, взглянули — ничего нет! Слава тебе, Господи! Как гора с плеч свалилась!
И так явления повторялись не раз снаружи и внутри флигеля. Но никто о них много не говорил, потому что умная няня всех заставляла молчать. Только эти видения: явления домовых (или как хотите их назовите), шаги, мерно раздающиеся ночью в пустых комнатах, передвигание мебели незримой рукой, стук растворяющихся и затворяющихся дверей — составляют, как мы уже сказали, принадлежность всякого жилища, от хижины бедняка до княжеских палат. Но есть дома особенно любимые привидениями, мертвецами, домовыми и стяжавшие в этом отношении громкую известность. Никто не сомневается в явлениях, которые в них происходят, хотя никто не может объяснить их причины.»
Вот рассказ, слышанный мной от очевидцев, деревенских соседей — дамы почтенных лет и ее мужа. Оба пользуются репутацией людей правдивых и непричастных к хвастовству, обману. Они уверяли меня честью и как нельзя серьезнее, что все, что я хочу пересказать, они сами видели и слышали.
Это случилось в достопамятную для России эпоху, когда жители древней столицы, встревоженные слухами о приближении французов, как стаи испуганных птиц, рассеялись по разным дорогам, ведущим из Москвы в провинции. Семейство их также с детьми, слугами и пожитками, какие могли захватить, отправилось куда глаза глядят. Действительно, тогда не знали, куда и как далеко кто едет. Главное состояло в том, чтобы спастись из столицы, которой угрожало если не занятие басурманами, чего еще никто не предполагал, то по крайней мере все ужасы столкновения двух огромных армий.
Семейство, назовем их хоть Гориными, состояло из старухи матери, больной и безответной, мужа с женой, ее сестры, двух дочерей и двух маленьких сыновей.
Отъехав от Москвы — много ли, мало ли, мы не скажем, потому как это не относится к рассказу, — они остановились в уездном городе N-ской губернии. К счастью их, толпы валившего из Москвы народа избрали большей частью не это направление, и потому, хотя город был наполнен проезжающими, им удалось найти в большом каменном доме комнату, где поместилось все женское население с кучей разных мешков и всякой рухляди, которую только удалось им второпях захватить с собой. Отец выпросил себе уголок напротив через сени у знакомого семейства, глава которого, оказавшийся соседом его по деревне, славился во всем их околотке необыкновенным бесстрашием и присутствием духа. Усталые от дороги и от различных впечатлений, испытанных в продолжение дня, грустные путешественники расположились, где кто мог, лишь только кончили скромный ужин. Сестры, Машенька и Наташа, которые были особенно дружны, легли вместе. В доме воцарилась тишина. Лампада, горевшая под образами, освещала комнату так ясно, что можно было различить все предметы. Вдруг Маша вскочила, пробужденная сильным толчком. Смотрит, кто-то выхватил у нее из-под головы подушку, и девушка от этого соскользнула с перины на пол. Прежде всего ей пришла мысль, что это кто-нибудь шутит над ней. Она посмотрела: двое мальчиков, от которых можно было ожидать такой шалости, спокойно спали в углу, обняв один другого. Маше стало страшно. Она тихонько толкнула сестру, та проснулась, протерла глаза и долго не могла понять, чего от нее хотят. «Наташа, где моя подушка?» Наташа слыла в семействе храброй. Выслушав сестру, она покачала головой, посмотрела по сторонам — подушка лежала в углу комнаты на сундуке. Наташа встала, преспокойно взяла подушку и отдала сестре, сказав: «Тебе померещилось, душа моя, ты сама, верно, бросила от себя подушку», повернулась на другой бок и заснула. Маша, ободренная хладнокровием сестры, почти убедилась, что ей точно показалось. Она перекрестилась и постаралась заснуть, но сон долго не шел к встревоженной девушке. При малейшем шорохе она вздрагивала, и легкой дремоты как не бывало. Наконец она впала в какое-то усыпление, как вдруг голос Наташи разбудил ее. Наташа сидела на постели, ворчала и бранилась на сестру, что она так некстати расшутилась — и у нее из-под головы исчезла подушка. Напрасно Маша все отрицала, дрожа всем телом от страха. Они принялись искать подушку по всем углам и долго не могли найти. Говор Наташи разбудил мать, тетку, служанку. Пошли расспросы, поиски. Наконец, после долгого хождения по комнате, нашлась подушка — она была крепко-накрепко забита за печку, которая, как часто водится в подобных комнатах, стояла неплотно у стены. Девка, которой поручено было вытащить ее, с трепетом шепнула барышням: «Ох, матушки, чуяло мое сердце, что недоброе совершается в доме. Недаром слышалось мне, что кто-то в сенях охает да стонет». Между тем в толках, спорах и разговорах прошла ночь. Восходящее солнце разогнало призраки. Все успокоились. Наташа первая стала хохотать над собой и над другими. Одна Груша (горничная девушка) сохраняла важный и озабоченный вид. Собрались к завтраку. Андрей Николаевич Горин с товарищами много шутили над страхом барышень. К несчастью, ехать далее было невозможно — надо было по крайней мере дня два подождать известий из деревни. Важные и печальные заботы действительности изгнали из ума их всякую постороннюю мысль до той самой минуты, пока снова все семейство не отправилось на покой. На этот раз никто не мог заснуть — над всеми тяготело ожидание чего-то необыкновенного. Груша, свернувшись клубком у сундука, творила молитву и вздыхала. Одна только сестра хозяйки, тетка девушек, заснула крепким сном. Тетушка Марья Антоновна была самодушевленное хладнокровие и рассудительность. Казалось, никакие перевороты в мире не могли заставить ее выйти из нормального состояния. С тех пор, как они выехали из Москвы со слезами, горем и неизвестностью о будущем, она ни разу не забыла о своем чулке и не упускала ни одного случая вынуть его и заняться им с величайшим вниманием, лишь только они где-нибудь останавливались. Вдруг страшный шум раздался за печкой: кто-то мерно и протяжно царапал ее внутренние стенки почти около самого потолка, и этот звук никак нельзя было принять за движение мыши. Скорее, оно походило на условленный знак, когда кто-то тихонько скребется в дверь комнаты, желая дать знать о своем присутствии, — так мерны и четки были звуки, так одинаковы промежутки, их разделяющие. Вскоре за этим началось общее движение в комнате: подушки шевелились на своих местах, узлы двигались и катались по комнате. Потом все утихло. Но зато шум с еще большей силой возобновился внизу. Под комнатой жильцов находилась обширная зала, наполненная народом. Русский человек и во всякое время большой охотник поспать — уж коли заснет, его с трудом можно добудиться. В этот день ночевали в ней многочисленные беженцы, утомленные длинными переходами, торопившиеся выспаться вволю, чтобы на другой день встать спозаранку и отправиться в такой же дальний путь. Вдруг семейство Гориных услыхало шум, подобный тому, как будто вся кухня наполнилась поварами, занятыми приготовлениями на 40 человек. Слышно было, как они рубили котлеты, зелень и прочее, и этот мерный, всем знакомый звук так явственно раздавался в ушах, что всякому, кто его слышал, нетрудно было представить себе полную картину поварской деятельности. Утром все утихло. Тетушка Марья Антоновна, которую не разбудили трепещущие соседки, встала в недовольном духе и с важностью начала упрекать своих собеседниц в трусости. Пока она рассуждала, завтрак кончился, и Марья Антоновна пошла за своим чулком, чтобы по обыкновению сесть в угол и заняться любимой работой — вязанием, забыв обо всем. Только напрасно она искала его на том месте, где клала свои вещи в величайшем порядке, напрасно всех допрашивала и шарила по всем углам — чулок пропал. Тогда произошло явление еще никем не виданное. Марья Антоновна впервые в жизни рассердилась не на шутку — она начала бранить племянниц, говоря, что это их проказы, что неприлично издеваться над старшими и пр. В особенности ее упреки сыпались на Наташу, известную резвушку и затейницу, тем более что она, глядя на комический вид рассерженной тетушки, не могла удержаться от смеха. Наконец уже сама мать, желая прекратить сцену, крикнула на дочерей и на девку, которая, вздыхая и охая, терла посуду. Тогда все засуетились еще больше. Бросились искать по всем углам. Наконец девка засунула за печку руку, до плеча обнаженную, с торжеством вытащила оттуда сначала чулок, потом клубок Марьи Антоновны. Но увы! В каком виде! Все спицы были вынуты, согнуты и воткнуты кое-как в клубок. Прекрасное, ровное вязанье распущено по крайней мере на вершок. Не пощажена была и узорчатая дорожка, и самый решетчатый носок, который она так старательно выделывала и показывала с такой гордостью. Право, мне кажется, что она заплакала! Это-то Марья Антоновна, которая не выронила слезы, выезжая из Москвы, не зная, воротится ли в нее когда-нибудь. Долго и шумно спорили постояльцы. Призвали хозяина, который, по обыкновению русских людей, начал сразу клясться и божиться, не разобрав еще, в чем дело, а когда ему растолковали, то стал отделываться двусмысленными выражениями, прибавляя после каждой фразы: «Матушка! Мы люди крещеные. Слава тебе Господи! У нас образа святые по хоромам расставлены!» Даже наш храбрый и вольнодумный сосед, слушая всеобщие толки и свидетельства стольких лиц, поколебался в своем насмешливом неверии и попросил позволить ему взглянуть на ночные проделки неведомых лиц. Решили провести ночь, не раздеваясь, почти настороже. И вот снова в комнате и в доме все стихло. Уже начали надеяться, что ночь пройдет спокойно. Вдруг в урочный час в переднем углу что-то зашевелилось. Там, на разостланном ковре, разложены были разные вещи и среди них дорожная шкатулка Андрея Николаевича. Все обратились в ту сторону — на глазах у всех ковер начал шевелиться, свиваться и со стоящей на нем шкатулкой продвигаться на середину комнаты.