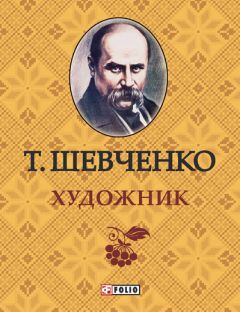Ознакомительная версия.
Карл Павлович чрезвычайно прилежно работает над копиею с картины Доменикино «Иоанн Богослов». Копию эту заказала ему Академия художеств. Во время работы я читаю. У него порядочная своя библиотека, но совершенно без всякого порядка; несколько раз мы принимались дать ей какой-нибудь толк, но только все безуспешно. Впрочем, недостатка в чтении нет. Карл Павлович обещался Смирдину сделать рисунок для его «Ста литераторов», и он служит ему всею своей библиотекою. Я прочитал уже почти все романы Вальтер Скотта и теперь читаю «Историю крестовых походов» Мишо. Мне она нравится лучше всех романов, и Карл Павлович то же говорит. Я начертил эскиз, как Петр Пустынник ведет толпу первых крестоносцев через один из германских городков, придерживаясь манеры и костюмов Реча. Показал Карлу Павловичу, и он мне строжайше запретил брать сюжеты из чего бы то ни было, кроме Библии, древней греческой и римской истории. «Там, – сказал он, – все простота и изящество. А в средней истории – безнравственность и уродство». И у меня теперь на квартире, кроме Библии, ни одной книги нет. «Путешествие Анахарсиса» и «Историю Греции» Гилиса я читаю у Карла и для Карла Павловича, и он всегда слушает с одинаковым удовольствием.
О, если бы вы видели, с каким вниманием, с какой сердечною любовию кончает он свою копию! Я просто благоговею перед ним, да и нельзя иначе. Но что значит волшебное, магическое действие оригинала! Или это просто предубеждение, или время так очаровательно стушевало эти краски, или Доменикино… Но нет, это грешная мысль. Доменикино никогда не мог быть выше нашего божественного Карла Павловича. Мне иногда хочется, чтобы скорее унесли оригинал.
Как-то раз за ужином зашла речь о копиях, и он сказал, что ни в живописи, ни в скульптуре он не допускает истинной копии, т. е. воссоздания. А что в словесной поэзии он знает одну-единственную копию – это «Шильонский узник» Жуковского. И тут же прочитал его наизусть. Как он дивно стихи читает, ей-богу, лучше Брянского и Каратыгина.
Кстати о Каратыгине. На днях случайно зашли мы в Михайловский театр. Давали «Тридцать лет, или Жизнь игрока» – пересоленная драма, как он выразился. Между вторым и третьим [актом] он ушел за кулисы и одел Каратыгина для роли нищего. Публика бесновалась, сама не знала отчего! Что значит костюм для хорошего актера.
Тальони уже приехала в Петербург и вскоре начнет свои волшебные полеты. Он, однако ж, что-то ее не жалует. Ах, если бы скорее Штернберг приехал! Я не видавши полюбил его. Карл Павлович для меня слишком колоссален, и, несмотря на его доброту и ласки, мне иногда кажется, что я один. Михайлов прекрасный и благородный товарищ, но ничем не увлекается, никакая прелесть его, кажется, не чарует; а может быть, я его не понимаю. Прощайте, мой незабвенный благодетель».
«Я в восторге! Давно и так нетерпеливо ожидаемый мною Штернберг наконец приехал! И как внезапно, нечаянно! Я испугался и долго не верил своим глазам; думал, не видение ли. Я же в то время компоновал эскиз «Иезекииль на поле, усеянном костями». Это было ночью, часу во втором. Вдруг двери растворяются – а я углубился в «Иезекииля» и двери забыл запереть на ключ, – двери растворяются, и является в шубе и в теплой шапке человеческая фигура. Я сначала испугался и сам не знаю, как проговорил:
– Штернберг!
– Штернберг, – отвечал он мне, и я не дал ему шубу снять, принялся целовать его, а он отвечал мне тем же.
Долго мы молча любовались друг другом, наконец он вспомнил, что ямщик у ворот дожидается, и пошел к ямщику, а я к дворнику – просить перенести вещи в квартиру. Когда все это было сделано, мы вздохнули свободно. И странно. Мне казалося, что я встретил старого знакомого или, лучше сказать, вижу вас самих перед собою. Пока я расспрашивал, а он рассказывал, где и когда он вас видел, о чем говорили и как рассталися, пока все это было, и ночь минула. И мы тогда только рассвет заметили, когда увидели от подсвечника упавшую ярко-голубую тень.
– Теперь, я думаю, можно и чаю напиться, – сказал он.
– Я думаю, можно, – отвечал я. И мы пошли в «Золотой якорь».
После чая уложил я его спать, а сам пошел сказать о моей радости Карлу Павловичу, но он тоже спал. Делать нечего, я вышел на набережную и не успел пройти несколько шагов, как встретил Михайлова, тоже, кажется, всю ночь не спавшего; он шел с каким-то господином в пальто и в очках.
– Лев Александрович Элькан, – сказал Михайлов, указывая на господина в очках.
Я сказал свою фамилию, и мы пожали друг другу руку. Потом я сказал Михайлову о приезде Штернберга, и господин в очках обрадовался, как прибытию давно жданного друга.
– Где же он? – спросил Михайлов.
– У нас на квартире, – отвечал я.
– Спит?
– Спит.
– Ну, так пойдем в «Капернаум», там, верно, не спят, – сказал Михайлов. Господин в очках в знак согласия кивнул головою, и они, взявшись под руки, пошли, и я вслед за ними. Проходя мимо квартиры Карла Павловича, я заметил в окне голову Лукьяна, из чего и заключил, что маэстро уже встал. Я простился с Михайловым и Эльканом и пошел к нему. В коридоре я [встретил его] с свежей палитрой и чистыми кистями, поздоровался с ним и возвратился назад. Теперь я не только вслух, и про себя читать был не в состоянии. Походивши немного по набережной, я пошел на квартиру. Штернберг еще спал; я тихонько сел на стуле против его постели и любовался его детски-непорочным лицом. Потом взял карандаш и бумагу и принялся рисовать спящего вашего, а следовательно, и моего друга. Сходство и выражение вышло порядочное для эскиза, и только я очертил всю фигуру и назначил складки одеяла, как Штернберг проснулся и поймал меня на месте преступления. Я сконфузился; он это заметил и засмеялся самым чистосердечным смехом.
– Покажите, что вы делали? – сказал он вставая.
Я показал; он снова засмеялся и до небес расхвалил мой рисунок.
– Я когда-нибудь отплачу вам тем же, – сказал он смеясь. И, вскочив с постели, умылся и, развязавши чемодан, начал одеваться. Из чемодана, из-под белья, вынул он толстую портфель и, подавая ее мне, сказал: «Тут все, что я сделал прошлого лета в Малороссии, кроме нескольких картинок масляными красками и акварелью. Посмотрите, если время позволяет, а мне нужно кое-куда съездить. До свидания! – сказал он, подавая мне руку. – Не знаю, что сегодня в театре. Я ужасно за ним соскучился. Пойдемте вместе в театр.
– С большим удовольствием, – сказал я, – только вы зайдите за мною в натурный класс.
– Хорошо, зайду, – сказал он уже за дверями.
Если бы не пришел за мною Лукьян от Карла Павловича, мне обед и на мысль не пришел [бы], мне даже досадно было, что для лукьяновского ростбифа я должен был оставить портфель Штернберга. За обедом я сказал Карлу Павловичу о моем счастии, и он пожелал его видеть. Я сказал ему, что мы условилися с ним быть в театре. Он изъявил желание сопутствовать нам, если дают что-нибудь порядочное. К счастью, в тот день на Александрийском театре давали «Заколдованный дом». В конце класса Карл Павлович зашел в класс, взял меня и Штернберга с собою, усадил в свою коляску, и мы поехали смотреть Людовика XI. Так кончился первый день.
На второй день поутру Штернберг взял свою толстую портфель, и мы отправились к Карлу Павловичу. Он был в восторге от вашей однообразно-разнообразной, как он выразился, родины и от задумчивых земляков ваших, так прекрасно-верно переданных Штернбергом.
И какое множество рисунков, и как все прекрасно. На маленьком лоскутке серенькой оберточной бумаги проведена горизонтально линия, на первом плане ветряная мельница, пара волов около телеги, наваленной мешками. Все это не нарисовано, а только намекнуто, но какая прелесть! Очей не отведешь. Или под тенью развесистой вербы у самого берега беленькая, соломой крытая хатка вся отразилася в воде, как [в] зеркале. Под хаткою старушка, а на воде утки плавают Вот и вся картина, и какая полная, живая картина!
И таких картин или, лучше сказать, животрепещущих очерков полна портфель Штернберга. Чудный, бесподобный Штернберг! Недаром его поцеловал Карл Павлович.
Невольно вспомнил я братьев Чернецовых; они недавно возвратились из путешествия по Волге и приносили Карлу Павловичу показать свои рисунки: огромная кипа ватманской бумаги, по-немецки аккуратно перышком исчерченная. Карл Павлович взглянул на несколько рисунков и, закрывши портфель, сказал, разумеется, не братьям Чернецовым: «Я здесь не только матушки Волги, и лужи порядочной не надеюсь увидеть». А в одном эскизе Штернберга он видит всю Малороссию. Ему так понравилась ваша родина и унылые физиономии ваших земляков, что он сегодня за обедом построил уже себе хутор на берегу Днепра, близ Киева, со всеми угодиями в самой очаровательной декорации. Одно, чего он боится и чего никак устранить от себя не может, – это помещики, или, как он называет их, феодалы-собачники.
Он совершенное дитя, со всею прелестию дитя.
Ознакомительная версия.