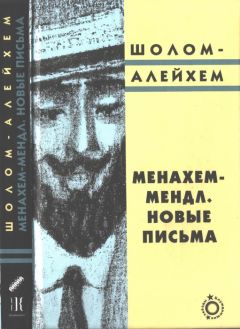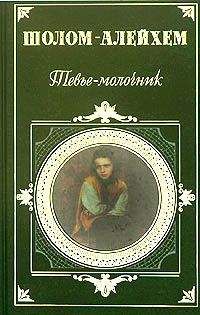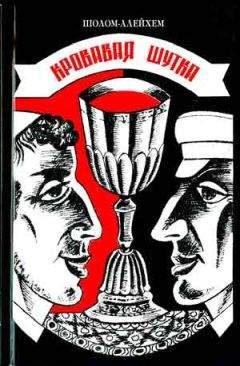Хорошо, что вспомнила! Скажи-ка мне, Мендл, что это за то ли «ека», то ли «мета», то ли «шмета»[138], в которые народ здесь записывается, чтоб уехать? Многое множество людей уже записалось в них и теперь ждет своей партии, дожидается. Я тут спросил об этом у нескольких соседей, но ты же знаешь наших касриловских умников, чуть что, так они отделываются отговорками. «Коли у тебя, — говорят они мне, — такой муж, как Менахем-Мендл, так как же может быть, — говорят они, — чтобы ты об этом да не знала?» И какое им до тебя дело? Как говорит мама: «В Писании сказано, сходила голубка попросить у лисы совета, так сама закаялась и детям детей заказала»… Как это глубоко! С тех пор как умер папа, да покоится он с миром, мама не расстается с Тайч-Хумешем[139].
(№ 99,13.05.1913)
7. Менахем-Мендл из Варшавы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку.
Письмо пятое
Пер. В. Дымшиц
Моей дорогой супруге, разумной и благочестивой госпоже Шейне-Шейндл, да пребудет она во здравии!
Прежде всего, уведомляю тебя, что я, слава Тебе, Господи, нахожусь в добром здоровье, благополучии и мире. Господь, благословен Он, да поможет и впредь получать нам друг о друге только добрые и утешительные вести, как и обо всем Израиле, — аминь!
Затем, дорогая моя супруга, да будет тебе известно, что этот человек — мудрец. Я говорю о нем, о царе Монтенегры то есть, и я имею в виду тот номер, который он недавно выкинул. С человеком, который такое вытворяет, не до шуток! Раньше он был, кажется, таким несговорчивым, давал понять всему миру, что, дескать, нет и еще раз нет — он не сдвинется из захваченного города, разве что его оттуда вынесут ногами вперед. Теперь же, когда он увидел, что Франц-Йойсеф двинул к границе армию в несколько сот тысяч человек, что Виктор-Имонуел, который ему, царю Монтенегры, не чужой, зять то есть, тоже собрался в дорогу с тремястами тысячами солдатиков, что и «мы» в Петербурге не сидим сложа руки, потому что «мы» ему, царю Монтенегры, как раз дали понять, что говорить не о чем, что на «нас» ему не следует полагаться[140], — он сообразил, что хватит шутки шутить, сразу стал мягким как масло и заговорил совсем по-другому, совсем другим языком. «Не пристало, — говорит он в своей первой же телеграмме англичанину, — великому и сильному (он имеет в виду старого Франца-Йойсефа) принуждать маленького, бедного царя Монтененгры, что такое мы и жизнь наша…»[141] Слышишь, какие слова? Разве я не был прав, когда писал тебе, что с «важными персонами» надо быть вежливым? То же самое случилось с албанским «вторым после царя». Препоясав чресла мечом и отправляясь в поход, старец Франц-Йойсеф и итальянский Виктор-Имонуел дали понять, что они двинулись к границам совсем не ради города Скеторье. Скеторье, дескать, заботит их в последнюю очередь, а на царя Монтенегры они плевать хотели, он, дескать, так или иначе город очистит, не очистит по-хорошему, так придется по-плохому. У них якобы болит голова только из-за Албании. С Албанией, дескать, нужно обращаться вежливо, ее нужно взять и отделить от турка. Что значит отделить?! То есть отделить Албанию от турка надо было уже давно. Что из того? Не ее одну. Осторожно! Для этого есть те, кто постарше и поважней. Албания должна была стать независимым царством, как я это разъяснял тебе в предыдущем письме, ради соседства и ради того, чтобы дать двум другим царствам свободный выход к Адриатическому морю[142]. И именно поэтому между двумя императорами был выработан план, согласно которому Франц-Йойсеф и Виктор-Имонуел отделят эту Албанию от турка да и разделят ее пополам, половину мне, половину тебе… Услыхав об этом и видя, что дело плохо, самопровозглашенный царь Албании, Сед-паша, все обдумал и начал ото всего отпираться, дескать, он и не думал короновать себя ни «вторым после царя», ни третьим. Это, дескать, все его враги выдумали. Напротив, более пламенного патриота, чем он, реб Сед-паша, на свете нет. Он, дескать, преданный слуга султана и верный солдат своего отечества, Албании, ради которой он готов в огонь и в воду! Когда начинаются разговоры о патриотизме, значит, дело плохо… Кажется, что все наконец стало чудно, и прекрасно, и хорошо, и спокойно — все, конец войне, конец мебелизации[143], чего же еще желать? Но есть что-то, дорогая моя супруга, из-за чего мне беспокойно, а то, что мне беспокойно, — это плохой признак! Я, понимаешь ли, чувствую, что из-за этих дел у меня что-то ворохается внутри. Так уже было, не нынче будь помянуто, когда я работал на бирже. Все шпегелянты[144] и маклеры сидели себе за белыми скатертями, пили кофе или ели мороженое, и я в том числе. И вдруг у меня внутри что-то заворохалось, и я выскочил на третуар[145]. Сколько меня ни спрашивали, я и сам не знал, в чем дело. И точно: не прошло и получаса, как пришла телеграмма с петербургской биржи о том, что там все перевернулось, полный мрак! Тут, конечно, все наши шпегелянты и маклеры со своими бумажками и акциями провалились как Корей[146], и я среди них…
Точно так же обстоит сейчас дело с войной: что-то ворохается во мне. Дал бы Бог, чтобы я ошибался, но отступление царя Монтенегры мне не нравится. Как бы не случилось того, что было с «нами» в двенадцатом году, когда у «нас» была война с Наполеоном. «Мы» тогда тоже отступили из Москвы… Я, понимаешь ли, боюсь, как бы с его отходом из Скеторья весь город не превратился бы в дым. Как бы он не произнес «Создавший свет пламени»…[147] Ты думаешь, меня так волнует этот город? Совершенно не волнует. Меня волнует нечто другое, а именно: кто знает, какую еще штучку может выкинуть этот шпегелянт Микита-Николай? И кто знает, чего еще захочется Сед-паше? Тут как раз разнесся слух, что Монтенегра объединяется с Сербией! Ты хоть знаешь, чем это пахнет?.. Дал бы Бог, чтобы я ошибался, но я не поручусь, что еще до того, как это письмо придет в Касриловку, там, на Балканах, снова не закрутится колесо и не раздастся, не дай Бог, стрельба, потому что ты и представить себе не можешь, что это за пороховая бочка, и ты плохо знаешь, глупенькая, этого самого царя Монтенегры. Я, слышишь ли, готов поклясться, чем угодно, что он — шпегелянт, что он играет на бирже. Дай Бог вскорости нам — я имею в виду нас, евреев, — так достичь истинного избавления, как то, что он шпегелянт, и к тому же азартный! Это чувствуется по каждому его шагу. Я такие дела носом чую, я ведь тоже был, не нынче будь помянуто, шпегелянтом и разбираюсь в том, как из снега лепят творожники, то есть сперва кричат «бес»[148], это значит акции падают, тогда их как следует прикупают вместе с бумагами с «ультимо»[149], с реализацией в конце месяца то есть, потом переключаются на «а-ля гос»[150], это значит делают так, чтобы бумаги поднялись, чтобы их можно было выгодно продать и «подхлестнуть», то есть ты идешь продавать с другим «ультимо» все, что у тебя есть, да еще и с накруткой! А когда дело доходит до реализации, то есть пора отдавать деньги, ты снова переключаешься на «а-ля бес»[151], — о, мы эти делишки знаем! Вот только что я прочитал в телеграмме о том, что царь Монтенегры принял решение, что, как только он оставит этот город, Скеторье то есть, так сразу же, дескать, отречется от престола. Что за ерунда! Хаскл Котик любит иногда поспорить. «Откуда вы знаете, — говорит он, — что творится в душе у царя Монтенегры? Может, он хочет-таки на старости лет отречься от престола? Деньги, — говорит он, — у него есть? Дети пристроены? Чего еще, — говорит он, — ему не хватает?» Ну что ты скажешь на такие рассуждения? Нет! Ты меня не уговоришь, и никто меня не переспорит, пусть придут хоть все цари запада и востока, и они не разубедят меня в том, что Николай — шпегелянт, только шпегелирует он хоть и не на бирже, зато, возможно, заодно со своим зятем Виктором-Имонуелом! А как же иначе? Любая война, глупенькая, это не более чем шпегеляция. Шпегеляция между царями, которые шпегелируют своими солдатиками. И уж конечно, не для того, чтобы набить свой карман, но только во имя своих стран и своих народов… И военная шпегеляция, как и все прочие шпегеляции, — это дело удачи, азартная игра. Кому повезет, тот все забирает: он получает и земли, и деньги, и всякое добро, и почет без меры. А кому не повезет, тот обнищает, ведь кроме того, что он проиграл войну, у него еще оттяпали часть его земель, поубивали его солдатиков, его бумаги на бирже упали ниже некуда, он потерял кредит и, ко всем прочим несчастьям, должен оплатить врагу его болезнь и ее лечение, его честь и ее оскорбление, вернуть все издержки — это называется контрибуция…