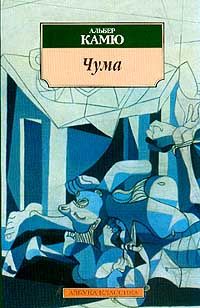Ознакомительная версия.
Для этого надо было пересечь дорогу, прозванную овечьей, потому что по ней гоняли овец на рынок в Мезон-Карре, восточный пригород Алжира. Но на самом деле это был просто рокадный путь между морем и полукружием города, раскинувшегося амфитеатром на прибрежных холмах. Между дорогой и морем тянулись фабрики, кирпичные заводики и большой газовый завод, их разделяли участки песка, покрытого глиняными черепками или известковой пылью, где белели какие-то доски и железяки. Миновав эту унылую песчаную равнину, друзья оказывались на пляже Саблет. Песок здесь был темный, и волны у берега не всегда прозрачные. Справа общественная купальня предлагала посетителям свои кабинки, а по праздникам и свой зал — большой деревянный сарай на сваях — для танцев. Каждый день, в сезон, торговец хрустящей картошкой топил здесь свою железную печку. В большинстве случаев у ребят не набиралось денег даже на один кулек. Если же вдруг у кого-то из них чудом оказывалась искомая монетка[31], он покупал кулек картошки, важно шествовал к пляжу в сопровождении свиты почтительных товарищей, и у самого моря, в тени старой сломанной лодки, утопая ногами в песке, плюхался на попку, одной рукой держа кулек в вертикальном положении, а другой прикрывая его сверху, чтобы не уронить ни один из драгоценных хлопьев. По установившемуся правилу, он угощал каждого одним ломтиком, и они благоговейно вкушали свою порцию лакомства, горячего и благоухающего пахучим маслом. Потом все они смотрели, как счастливчик торжественно, по одной, смакует оставшиеся картошинки. На дне пакета всегда были еще крошки. Друзья молили пресыщенного баловня судьбы поделиться ими. И почти всегда, если только это был не Жан, он разворачивал промасленную бумагу и позволял каждому по очереди взять по одному обломку. Требовалось лишь бросить жребий, кто набросится первым и выберет самый крупный. Наконец пиршество заканчивалось, наслаждение и досада мгновенно забывались, и они мчались дальше под палящим солнцем, в западный конец пляжа, к полуразрушенному кирпичному фундаменту, видимо, служившему некогда основанием для какой-то снесенной деревянной постройки, — там они раздевались. Через несколько секунд они уже были голые, а еще через миг — в воде и плыли сильными неуклюжими саженками, что-то крича[32], захлебываясь и отплевываясь, соревнуясь, кто глубже нырнет или дольше пробудет под водой. Море было теплым, спокойным, солнце уже не так пекло их мокрые головы, и празднество света наполняло все их существо ликованием, от которого они вопили без умолку. Они царили над жизнью и морем, все самые роскошные дары мира принадлежали им, они пользовались ими безоглядно, как владетельные принцы, уверенные в своем неисчерпаемом и бесценном богатстве.
Забыв о времени, они с разбегу бросались в море, сушились на берегу после соленой воды, от которой кожа делалась клейкой, а потом смывали в море серый песок, облепивший их с ног до головы. Они носились взад и вперед, а стрижи, испуская короткие крики, уже летали все ниже и ниже над фабриками и пляжем. Небо, освобожденное от дневного жара, становилось прозрачнее и незаметно приобретало зеленоватый оттенок, свет смягчался, и по ту сторону залива дуга городских домов, недавно тонувших в мареве, проступала все отчетливее. Было еще светло, но кое-где уже зажигались огни, возвещая приближение коротких африканских сумерек.
Обычно Пьер первым подавал сигнал: «Уже поздно», и начиналась паника, все разом бросались бежать, прощаясь уже на ходу. Жак с Жозефом и Жаном неслись к себе, забыв об остальных. Они мчались по улицам не переводя дыхания. Мать Жозефа была скора на руку. А уж бабушка Жака… Они бежали в стремительно сгущавшихся сумерках, обезумев от вида первых фонарей и освещенных трамваев, впадали в ужас, понимая, что становится совсем темно, из последних сил прибавляли ходу и расставались у порога, даже не говоря «до свидания». В такие вечера Жак останавливался посреди темной вонючей лестницы, прислонялся к стене и ждал, когда сердце перестанет так колотиться. Но ждать было некогда, и от этой мысли он задыхался еще сильнее. В три скачка он оказывался на своей площадке, пробегал мимо уборной и открывал дверь. В столовой в конце коридора горел свет, и Жак, холодея, слышал стук ложек по тарелкам. Он входил. За столом, в круге света от керосиновой лампы, полунемой дядя[33] шумно хлебал суп; мать, еще молодая, с густыми темными волосами, поднимала на него большие кроткие глаза. «Ты же знаешь…» — начинала она. Но бабушка, прямая, с непреклонной линией губ и суровыми светлыми глазами, продолжая сидеть к нему спиной, не давала дочери договорить. «Где ты был?» — спрашивала она. — «Мы с Пьером делали арифметику». Бабушка вставала и подходила к нему. Она принюхивалась к его волосам, потом ощупывала лодыжки, которые все еще были в песке. «Ты был на пляже». — «Выходит, ты врун», — с трудом выговаривал дядя. Но бабушка уже шла к двери, она снимала с гвоздя в коридоре толстую плетку, называвшуюся в доме «бычья жила», и вытягивала его три-четыре раза по ногам и ягодицам, так что он готов был выть от нестерпимой боли. Потом, давясь от подступавших слез перед тарелкой супа, из жалости поданной ему дядей, он крепился изо всех сил, чтобы не разреветься. А мать, бросив быстрый взгляд на бабку, склоняла к нему нежное лицо, которое он так любил: «Ешь суп, — говорила она. — Ну, всё, всё». И тут он начинал плакать.
Жак Кормери проснулся. Солнце больше не отражалось в медном иллюминаторе, оно опустилось к горизонту и освещало теперь стену напротив. Жак оделся и вышел на палубу. Он увидит Алжир на исходе ночи.
5. Отец. Его смерть. Война. Взрыв
Он сжал ее в объятиях прямо на пороге, с трудом переводя дух после того как взлетел по лестнице через ступеньку, одним махом, ни разу не споткнувшись, как будто ноги все еще точно помнили высоту ступеней. Выйдя из такси посреди оживленной, несмотря на ранний час, улицы, недавно политой и местами еще блестящей от воды[34], которую солнце уже обращало потихоньку в легкий пар, он увидел ее там же, где всегда, на узком балконе, общем на две комнаты, прямо над навесом парикмахера — но это был уже не отец Жана и Жозефа, тот умер от туберкулеза, это все из-за работы, говорила его жена, он все время возился с волосами, — где на покрытии из гофрированного железа валялись, как прежде, высохшие смоквы, окурки и скомканные бумажки. Она сидела там, все такая же пышноволосая, хотя и давно седая, прямая, несмотря на свои семьдесят два года — с виду ей можно было дать лет на десять меньше благодаря необычайно стройной, худощавой фигуре и все еще заметной физической крепости, — это было у них в роду, где все как на подбор были поджарые, несуетливые, наделенные неиссякаемой энергией люди, как бы неподвластные старости. В пятьдесят лет полунемой дядя Эмиль[35] выглядел совсем молодым человеком. Бабушка умерла, так и не согнувшись. Что же до матери, к которой он взбегал сейчас по лестнице, то, казалось, ничто не способно сокрушить ее нежную стойкость, ибо даже десятилетия тяжкого труда пощадили ее красоту, так восхищавшую в детстве Кормери.
Когда он очутился на площадке, мать уже стояла в дверях и бросилась ему на шею. Как всегда, когда они встречались после разлуки, она поцеловала его раза два или три, прижимая к себе изо всех сил, и он чувствовал под руками ее ребра, жесткие выступы чуть подрагивающих плеч и вдыхал нежный запах ее кожи, напоминавший ему о впадинке на шее, которую он уже не осмеливался целовать, но в детстве любил нюхать и гладить, и в тех считанных случаях, когда она брала его на колени, он, притворясь спящим, утыкался носом в эту впадинку, и ее запах был для него столь редким в его детской жизни запахом нежности. Мать целовала его, потом, на миг отпустив, смотрела ему в лицо и снова прижимала к себе, чтобы поцеловать еще раз, как будто, оценив мысленно всю любовь, какую питала к нему или могла выразить, сочла, что мера еще не полна. «Сынок, — говорила она, — как долго тебя не было[36]». И, сразу же отвернувшись, возвращалась в квартиру, садилась на стул у окна и начинала смотреть на улицу, словно больше не думала о нем, как, впрочем, и ни о чем, глядя на него порой как-то странно, точно теперь — во всяком случае, ему так казалось, — он был здесь лишним и нарушал порядок небольшого мира, пустого и замкнутого, где она обитала в одиночестве. Но в этот день, сев рядом, он почувствовал в ней какое-то беспокойство, она все время украдкой посматривала на улицу, чуть отводя свои прекрасные глаза, темные и блестящие, которые мгновенно успокаивались, когда она переводила взгляд на Жака.
Шум на улице постепенно нарастал, все чаще с грохотом проносились мимо тяжелые красные трамваи. Кормери смотрел на мать: одетая в серую блузку с белым воротничком, она сидела в профиль перед окном на неудобном стуле [][37], там, где сидела всегда, слегка ссутулившись, но не откидываясь на спинку, и время от времени комкала в загрубелых пальцах платок, скатывала его в шарик, а потом забывала в складках юбки меж неподвижных рук. Она была такой же, как тридцать лет назад, и за сетью морщин он видел все то же лицо, поразительно молодое, гладкие и блестящие, словно литые, дуги бровей, маленький прямой нос, рот, все еще прекрасно очерченный, — его не портили ни зубной протез, ни морщинки в уголках губ. Даже шея, которая обычно так быстро увядает, сохранила свою форму, несмотря на узловатые вены и чуть оплывший подбородок. «Ты была в парикмахерской», — сказал Жак. Она улыбнулась, как девочка, уличенная в проказе. «Да, ведь ты должен был приехать». Она всегда была кокетлива на свой лад, почти незаметно. Как бы бедно она ни одевалась, Жак не помнил, чтобы она надела хоть раз что-то некрасивое. Даже теперь серые и черные тона, которые она носила, были прекрасно подобраны. Это был врожденный вкус, свойственный всему их клану, вечно нищему или бедному, где лишь несколько дальних родственников сумели кое-как выбиться из нужды. Однако их мужчины, как все средиземноморцы, любили белые сорочки и отглаженные брюки со стрелкой, находя вполне естественным, что непрерывная забота об этом, учитывая скудость гардероба, добавляется к повседневному труду женщин, матерей или жен. И его мать[38] тоже считала, что ей недостаточно стирать и убирать у чужих людей: Жак всегда видел ее в своих воспоминаниях, начиная с самых ранних, бесконечно отглаживающей единственные брюки брата и его собственные, пока он не уехал и не попал в мир женщин, которые не гладят и не стирают. «Он итальянец, наш парикмахер, — сказала мать. — Он хорошо работает». — «Да», — согласился Жак. Он хотел было сказать: «Ты очень красивая», но удержался. Он никогда не решался произнести это вслух. Не то чтобы он боялся отповеди с ее стороны или сомневался, что этот комплимент будет ей приятен. Но просто это означало бы перейти некий невидимый барьер, который она всю жизнь воздвигала между собой и другими, — мягкая и вежливая, уступчивая, даже пассивная, но никогда и никем не прирученная, замкнувшаяся в своей практически полной глухоте и трудности общения, красивая, разумеется, но почти неприступная — он чувствовал это особенно остро, когда она улыбалась и его сердце еще сильнее рвалось к ней, — да, всю жизнь у нее был вид смиренный и робкий, но в то же время отстраненный, и этот неизменный взгляд, каким она тридцать лет назад смотрела, не вмешиваясь, как ее мать бьет Жака плетью, хотя сама никогда не то что пальцем не тронула, но даже ни разу не побранила по-настоящему своих сыновей, и наверняка эти удары жгли ее так же, как и его, но ей мешала вступиться усталость, затрудненность речи, почтение к матери, и она молча терпела, днями, годами, терпела порку детей, как и свой тяжкий труд в чужих домах с паркетными полами, которые она мыла, ползая на коленях, жизнь без мужчины и без утешения среди жирной посуды и грязного белья чужих людей, нескончаемые беспросветные дни, тянувшиеся один за другим и составлявшие ее жизнь, в которой не было надежды, а потому не было и недовольства, так она и жила, неграмотная, выносливая, заранее смирившаяся со всеми страданиями, как со своими, так и с чужими. Он никогда не слышал от нее жалоб, разве что на усталость или ломоту в пояснице после тяжелой стирки. Он никогда не слышал, чтобы она о ком-нибудь говорила плохо, иногда только могла сказать, что какая-нибудь из сестер или теток была с ней неприветлива или держала себя «гордо». Но зато он редко слышал и чтобы она от души смеялась. Теперь она смеялась чаще, с тех пор как бросила работать и дети взяли на себя ее содержание. Жак оглядывал комнату, которая тоже совершенно не изменилась. Мать не захотела расстаться с этой квартирой, где все ей было привычно, со знакомым кварталом и переехать в другой район, получше, но где ей пришлось бы труднее. Да, это была та же самая комната. В ней сменили мебель, купили более приличную, не такую убогую. Но все здесь, как и раньше, было голо, предметы стояли в ряд по стенам. «Ты вечно везде шаришь», — сказала мать. Да, он не мог удержаться, чтобы не заглянуть в буфет, где по-прежнему лежало только самое необходимое, несмотря на все его мольбы, и эта пустота его поражала. Он открывал один за другим ящики маленького серванта: там хранились два-три лекарства, которыми обходились в доме во всех случаях жизни, несколько старых газет и моток бечевки, маленькая картонная коробочка с разрозненными пуговицами и старая фотография для удостоверения личности. Даже лишние предметы выглядели здесь бедными, потому что лишним не пользовались никогда. И Жак прекрасно знал, что живи его мать в нормальном доме, где было бы множество вещей, как у него, она все равно пользовалась бы только самым насущным. Он знал, что за стеной, в ее спальне, где стоял небольшой шкаф, узкая кровать, туалетный столик и плетеный стул, а единственное окно было занавешено связанной крючком занавеской, он не найдет, помимо мебели, ни одной вещи — разве что носовой платок, скатанный в шарик, который она забывала иногда на пустом туалетном столике.
Ознакомительная версия.