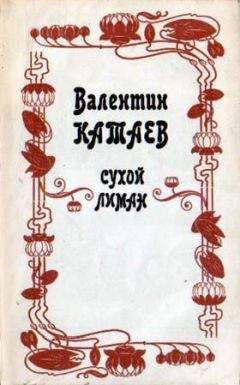Это единственный случай, когда солдаты имеют право на законном основании высказать жалобы и претензии непосредственно самому высшему начальнику, самому командиру бригады.
Чаще всего солдаты никаких жалоб и претензий не высказывают. Ну а вдруг выскажут? Тут уж фельдфебель чувствует себя на раскаленной сковородке.
Но все проходит сравнительно гладко.
По традиции вольноопределяющиеся ставятся на правом фланге. Стою на правом фланге. Проходя мимо меня, Ваш папа обращается к батарейному командиру.
– Однако я вижу, что вы нашего охотника Пчелкина уже поставили в строй. А он вам картины не подмочит?
– Никак нет, ваше превосходительство, – отвечая улыбкой на генеральскую улыбку, отвечает наш милый старичок батарейный, как принято его называть, вечный капитан, которому уже давно пора в отставку, да война помешала, – он у нас, ваше превосходительство, молодец!
Это я-то молодец? Как Вам понравится?…
Потом Ваш папа делает несколько выговоров, или, по солдатскому выражению, берет в расход подпоручика Лесли, которого наши батарейцы называют на свой лад – поручик Лесен, берет в расход также и моего взводного фейерверкера – красавца и милягу Читинского… отдает несколько приказаний.
Ну и так далее.
На другой день мне делают в лопатку противотифозный и противохолерный уколы, от которых у меня поднимается температура, и я лежу в околотке.
Об этом медицинском учреждении могу сказать лишь то, что оно помещается в тесной халупе с нарами в два этажа, на которых вповалку лежат больные солдаты, занимающиеся главным образом тем, что водят по бревенчатым стенам зажженными спичками, таким простым способом уничтожая (пардон!) клопов, которых здесь больше чем достаточно. Я им дал живописное название «выжигатели клопов».
Оправившись, я возвращаюсь в батарею и принимаю присягу. Вместе со мной присягу принимают еще двое вольноопределяющихся и несколько молодых офицеров.
Присяга – важное событие. После присяги я уже делаюсь настоящим солдатом.
Очень солнечный морозный день. Под ногами хрустит и ломается звездами лед.
Церемония присяги происходит все на той же церковной площади перед выстроенной батареей. Я волнуюсь и не знаю, как быть и что делать. Всем распоряжается свояк Вашего папы полковник Ш. Он по обыкновению несколько суетливо двигается то туда, то сюда, ходит вперевалочку в своей шведской замшевой куртке.
Перед батареей поставлен вынесенный из церкви лиловый бархатный аналой. Священник в полном облачении держит в руке лист бумаги и по пунктам читает церковным голосом слова присяги, после чего мы подходим по очереди к аналою и целуем переплет Евангелия, пахнущий ладаном, а также холодный наперсный крест, протянутый к нашим губам.
Отходим в сторону, не знаем, что надо дальше делать. Полковник Ш. подходит к нам.
– Поздравляю вас, господа, с принятием присяги…
Он замолкает, и кажется, что он еще будет говорить, но он внезапно отходит, а мы расходимся.
Конец.
Теперь я уже не свободный и независимый молодой человек – охотник-волонтер, – имеющий право в любой момент уехать домой из действующей армии, а нижним чин, канонир, подчиненный суровой воинской дисциплине.
За церковной оградой растет береза с молочно-белой атласной корой. Воздушное кружево ветвей, сероватых от инея, замечательно красиво рисуется падающей сетью на чистом морозном небе…
…Выступление на позиции. Утро. Девять часов. Парк, где стоят орудия нашей батареи, похож на конскую ярмарку. Кубы прессованного сена. Лошади. Зарядные ящики. Орудия. Передки… Все это производит впечатление беспорядка, хотя полный порядок. Все делается строго по уставу.
Офицеры с молодыми, утренними лицами. Пожилой командир батареи в серой бекеше выезжает вперед на своой смирной лошадке.
– Шапки долой! – кричит он добрым слабым голосом. – Ну, ребята, перекрестимся на дорогу!
Серьезный морозный ветерок пробегает по обнаженным короткоостриженным солдатским головам и по проборам офицеров.
Командир батареи размашисто осеняет себя крестным знамением, и котором мне чудится что-то кутузовское.
Мелькают руки, шапки. Все крестятся, и вместе со теми я тоже.
– Накройсь! Шагом марш!
Колеса скрипят по сырому снегу. Звенит упряжь. Я иду рядом со своим орудием номер четыре. Несмотря на январь, слегка подтаивает. Под ногами мокровато. Похоже на раннюю весну. В сердце грусть и одиночество.
Делаем переход в двадцать пять верст с двумя пятиминутными и одной получасовой остановками. Дорога в пловом лесу. Среди свежей по-зимнему, густой хвои, в чаще которой всегда легкий синеватый туман, белеют по-девичьи стройные стволы нестеровских берез. Опять сильно подморозило. Во время получасовой остановки на льду замерзшей речки бегу отогреваться в первую попавшуюся халупу, уже битком набитую нашими батарейцами. Пылает огонь в печурке. Пахнет ельником. Откуда-то взялся большой медный луженый чайник, и в нем уже бушует кипяток. Обжигаясь, пьем чай из самодельных кружек, бывших некогда консервными банками. Кусаем сахар. Мои замерзшие сапоги оттаивают. По всему телу разлипается приятная теплота. Хорошо бы завалиться на душистые еловые ветки, устилающие пол, и всхрапнуть как следует.
Но, увы, полчаса истекли.
Надо торопиться попасть засветло на позицию, откуда все громче и громче слышатся редкие орудийные выстрелы.
Но вот мы уже на месте. Стемнело. Вокруг ничего не видно, кроме деревьев. Ночь. Электрические фонарики орудийных фейерверкеров бегло освещают землянки и орудийные ровики, где совсем недавно стояли трехдюймовки батареи, которую мы сменяем.
Вот тут-то поскорее бы установить наши орудия и залечь спать в обжитой и хорошо натопленной землянке.
Ан нет!
Оказывается, мой второй взвод назначен на самую что ни на есть передовую секретную позицию в двух шагах позади пехотных окопов.
Отрываемся от своей батареи и, соблюдая всяческую осторожность, под покровом ночной темноты выезжаем вперед еще версты на три, то есть совсем под носом у немцев, где для нас уже заранее приготовлена саперами и надежно замаскирована удобная позиция: места для орудий, землянки для прислуги и телефонистов.
В темном звездном небе с трех сторон то тут, то там взлетают немецкие осветительные ракеты, и тогда бескрайние снега вокруг нас, хвойные рощи, сугробы снега волшебно, но в то же время как-то очень зловеще озаряются голубоватым бенгальским огнем, плывущим по окрестностям и как бы заливающим вместе с собою всю панораму зимней ночи.
Сюда уже залетают шальные пули немецких часовых. Иногда эти пули проносятся небольшой стайкой, как птички, с противным щебетаньем и посвистыванием. Это значит, что дают залп немецкие сторожевые охранения.
Пока – все.
Завтра или послезавтра, если бог даст, напишу продолжение. Вы не находите, что у нас с Вами происходит нечто вроде романа в письмах, причем главным образом пишу я, а Вы отмалчиваетесь? Не сердитесь! Роман!… Дождешься от Вас романа! За редкие письма Ваши большое спасибо. Они такие теплые. Мне очень приятно, что мои излишне подробные и длинные писания доставляют Вам удовольствие. Буду писать еженедельно. Если можете – отвечайте. Это будет мне тоже очень приятно.
Кроме знакомых, как Вы пишете, «девочек», которых у меня не так уж и много, я получаю письма и от «мальчиков». Девочки пишут сентиментальные письма, а мальчики – мои товарищи – пишут письма умные, содержательные. Все же мое одиночество остается незаполненным.
Пишите, дорогая Миньона! Ужасно медленно идут письма. Ваше письмо от 14 января получил только вчера. Уже поздно. Пишу в землянке, глубоко под землей, при невозможных условиях. Привет Вашей маме, сестрам – родным и двоюродным. Шлю Вам свой братский привет и вместе с ним немножко вьюги, хвойных лесов, звездных ночей и любви. Вспоминаете ли Вы дачу Вальтуха? А. П.».
Следующее письмо на довольно больших листах папиросной бумаги, мелким почерком, выцветшими чернилами. Откуда эта бумага? Что за чернила? Где писано? этого я уже совершенно не помнил. Руку свою разбирал с трудом, как чужую. Малоинтересный манускрипт прошлых веков! Но все-таки в этих строчках была какая-то часть меня, полустертый остаток моей прошлой жизни.
«Действующая армия. 8-11-16 г. Милая Миньона! Как ото ни странно, – не без труда разбирал я выцветшие слова, – но после Вашего письма у меня появилась непреодолимая потребность делиться с Вами всеми мелочами моего поенного быта. Вы одна из всех тех, кто мне пишет, правильно поняли, что главное – это мелочи. Именно мелочи. Из них складывается жизнь, хотя бы даже и на передовой линии с ежеминутной возможностью смерти. Мелочи главное самого главного, потому что главпое состоит именно из них, из этих как бы незначительных мелочей.