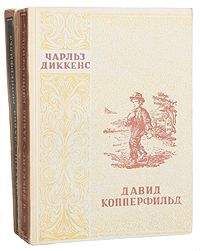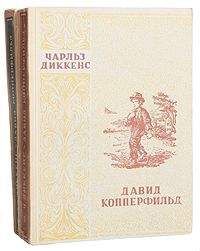Видя и слыша мать, я как будто видел и слышал сына, возражающего ей. В матери было неумолимое упрямство сына. Я понял, что огромная, часто дурно направляемая энергия сына живет также в его матери. Словом, эти два существа были почти тождественны.
Тут она обратилась ко мне и громко, тем же надменным тоном заявила, что так как ни говорить, ни слушать больше нечего, то она просила бы меня положить конец этому свиданию. Сказав это, она поднялась с величественным видом, собираясь удалиться, но мистер Пиготти, направляясь к двери, сказал:
— Не бойтесь, мэм, я не помешаю вам: мне больше нечего говорить. Ухожу я с тем же, с чем и пришел, — без всякой надежды. Я сделал то, что считал нужным сделать, но, по правде сказать, ничего не ждал от того, что побываю здесь. Этот дом сделал слишком много зла мне и моим, чтобы я мог ждать от него добра…
Мы вышли, а хозяйка дома со своей благородной осанкой и красивым лицом продолжала стоять у кресла.
Направляясь к выходу, мы должны были пройти через стеклянную галерею, увитую виноградной лозой. Сияло солнце, и обе стеклянные двери были настежь открыты в сад. Когда мы подошли к одной из дверей, из нее неслышно появилась Роза Дартль и, обращаясь ко мне, проговорила:
— Нечего сказать, хорошо вы поступили, приведя сюда этого человека!
Никогда не думал я, что столько бешенства и презрения может отражаться даже на ее лице, сверкать в ее черных, как смоль, глазах. Рубец, как всегда, когда она бывала вне себя, резко выделялся, а почувствовав, как по нему пробегает дрожь, она с яростью ударила по этому месту.
— Подумать только! — продолжала она. — Привести сюда под своим покровительством такого человека! Ну и хороший же вы друг!
— Мисс Дартль, неужели вы так несправедливы, что можете обвинять меня? — сказал я.
— Зачем же вы вносите разлад между этими двумя сумасшедшими? Неужели вы не знаете, что они оба помешаны на своем своеволии и гордыне?
— Да в чем же тут моя вина? — продолжал я спрашивать.
— Вы виноваты в том, что привели сюда этого человека. Почему вы это сделали?
— Этого человека глубоко оскорбили, мисс Дартль, — ответил я, — быть может, вам это неизвестно?
— Я знаю, — проговорила Роза, прижимая руку к груди, словно сдерживая свирепствующую там бурю, — знаю, что у Стирфорта фальшивое, порочное сердце, знаю, что он предатель, но что мне до этого человека, до его распутной племянницы!
— Мисс Дартль, зачем вы хотите еще усилить оскорбление? Довольно с них и того, что есть. Скажу вам на прощанье, что вы очень несправедливо обижаете их.
— Какая там обида! Все они негодяи и развратники, а племянницу, по-моему, хорошо бы выпороть!
Мистер Пиготти, не проронив ни слова, прошел мимо нее и вышел на улицу.
— Стыдитесь, мисс Дартль! Стыдитесь! — воскликнул я с негодованием. — Как можете вы попирать ногами старика, убитого незаслуженным горем!
— С радостью растоптала бы их всех! — воскликнула она. — С радостью снесла бы я его дом до основания! О, как хотела бы я, чтобы этой девчонке заклеймили физиономию каленым железом, чтобы ее одели в рубище и выгнали на улицу! Пусть сдохла бы там от голода! Если бы только от меня это зависело, я, ни минуты не колеблясь, вынесла бы ей именно такой приговор. Мало того, я еще привела бы его в исполнение собственными руками! Я ненавижу ee! И знай я, где найти ее, я пошла бы куда угодно, чтобы опозорить ее. Если бы я смогла вогнать ее в гроб, я бы не остановилась перед этим. Знай я слово, способное утешить ее в предсмертный час, я скорее умерла бы, чем произнесла это слово!
Я чувствовал, что все эти слова далеко не передают страстной злобы, бушевавшей в ее груди, веявшей от всей ее фигуры. А говорила она при этом тише обыкновенного. Я не в силах передать бешенства, охватившего эту девушку. Не раз на моих глазах проявлялся гнев у людей, но никогда не видывал я, чтобы он доходил до таких размеров.
Когда я догнал мистера Пиготти, он, задумавшись, тихим шагом спускался с холма. Увидав меня, старик сказал, что он выполнил то, что считал своим долгом сделать в Лондоне, и сегодня же вечером отравляется в путь.
— Куда же вы направляетесь? — спросил я.
— Иду искать племянницу, сэр, — ответил он мне и больше не сказал ни слова.
Мы вернулись в маленькую квартирку над свечной лавкой. И я, улучив удобную минуту, сообщил моей няне о том, что сказал мне ее брат. Она ответила, то утром уже слыхала от него об этом. Пиготти и не больше моего знала, куда направляется ее брат, но предполагала, что у него уже сложился какой-то определенный план.
Мне не хотелось при таких обстоятельствах расставаться с моим старым приятелем, и мы втроем пообедали пирогом с мясной начинкой, одним из лучших произведений кулинарного искусства моей няни. После обеда мы с часок посидели у окна, причем, надо сказать, разговор у нас не клеился. Наконец мистер Пиготти встал, принес свою клеенчатую сумку, толстую палку и положил на стол.
Старик согласился взять у сестры на дорогу небольшую сумму из имеющихся у нее наличных денег в счет тех, которые ему причитались по завещанию шурина. По-моему, этих денег едва могло хватить ему на месяц. Мистер Пиготти обещал написать мне, если с ним что-нибудь случится; затем он перекинул сумку через плечо, взял шляпу, палку и стал прощаться с нами обоими.
— Желаю вам всего доброго, дорогая моя старушка, — проговорил мистер Пиготти, целуя сестру. — И вам также, мистер Дэви, — обратился он ко мне, крепко пожимая мне руку. — Иду искать ее по белу свету. Если она вернется без меня, — ну, на это, конечно, мало надежды, — или я ее разыщу, так нам с ней надо будет жить и умереть там, где никто не сможет ничем попрекнуть ее. Если со мной случится какое-нибудь несчастье, то помните, что при прощании с вами мои последние слова были таковы: «Все так же неизменно люблю мою дорогую девочку и все прощаю ей».
Он проговорил это торжественным тоном, с непокрытой головой; затем надел шляпу, спустился по лестнице и ушел. Мы проводили его до дверей.
Было жарко и очень пыльно. Заходящее солнце заливало красным светом большую улицу, куда вел наш переулок, и старик, выйдя из этого переулка, погруженного в тень, исчез как бы в красном сиянии…
Часто потом, когда наступал этот вечерний час, когда просыпался я ночью, когда глядел на месяц и звезды, прислушивался к шуму дождя и завыванию ветра, я думал об одиноком страннике, и в ушах моих раздавались его последние слова: «Иду искать ее по белу свету. Если какое несчастье случится со мной, помните, что при прощании с вами мои последние слова были таковы: «Все так же неизменно люблю мою дорогую девочку и все прощаю ей».
Все это время я любил Дору больше чем когда-либо. Мысль о ней поддерживала меня в моих разочарованиях и горестях, далее помогала мне переносить потерю друга. Чем больше сокрушался я о себе и других, тем больше искал я утешенья в мечтах о Доре; чем больше мир казался мне переполненным горем и обманом, тем ярче и чище сияла над ним на недосягаемой высоте звезда Доры. Не думаю, чтобы, я особенно ясно представлял себе, откуда взялась Дора и в каком она родстве с высшими существами, но знаю одно, что с великим негодованием и презрением отверг бы мысль о том, что она, как всякая другая девушка, обыкновенное земное существо.
Я был, если можно так выразиться, весь пропитан Дорой. Я был не только влюблен в нее по уши, но весь как бы насыщен этой любовью. Выражаясь метафорически, из меня можно было бы выжать столько любви, что в ней утонул бы любой, и после того еще осталось бы достаточно, чтобы залить этой любовью всю мою жизнь.
Сейчас же по возвращении в Лондон я отправился на вечернюю прогулку в Норвуд. Битых два часа пробродил я вокруг «ее» дома, заглядывая в щели забора. С необыкновенными усилиями карабкался я по этому забору, я, выставляя подбородок над его набитыми сверху ржавыми гвоздями, посылал бесчисленные воздушные поцелуи освещенным окнам «ее» дома. Я восторженно молил ночь защитить мою Дору, не знаю уж от чего, вероятно от пожара или, быть может, еще от мышей, которых она страшно боялась.
Я был до того переполнен любовью, что мне казалось совершенно естественным открыть свою душу Пиготти. И вот, когда вечером она пришла ко мне и, окружив себя всеми своими старыми принадлежностями для шитья, принялась приводить в порядок мое белье и платье, я, начав издалека, поведал ей свою тайну. Няня приняла это очень близко к сердцу, но смотрела на вещи совсем не так, как я. Будучи высочайшего обо мне мнения, она совершенно не в состоянии была понять, почему я падаю духом и могу сомневаться в успехе.
— Ваша леди должна быть счастлива, что у нее такой красавчик поклонник, — с гордостью заявила няня. — А папаша?.. Скажите на милость, чего же ему еще нужно?