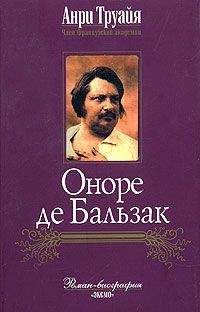Через три года, в 1826 году, Изоре исполнилось уже двадцать лет, а Мальвина все еще не была замужем. Выезжая в свет, Мальвина поняла в конце концов, как поверхностны там отношения между людьми, как все там рассчитано и взвешено. Подобно большинству так называемых хорошо воспитанных девиц, Мальвина не имела понятия ни о скрытых пружинах, управляющих жизнью, ни о могуществе денег, ни о трудности заработать хотя бы грош, ни о действительной стоимости вещей. И каждый новый опыт в этой области наносил ей рану. Четыреста тысяч франков, оставшиеся после покойного д'Альдригера в банкирском доме Нусингена, целиком значились на счету баронессы, так как она имела право унаследовать после смерти мужа не менее миллиона двухсот тысяч франков; в минуты затруднений альпийская пастушка черпала оттуда, как из неиссякаемого источника. В тот момент, когда наш голубок устремился к своей горлице, Нусинген, который знал характер вдовы своего бывшего патрона, счел нужным посвятить Мальвину в денежные дела баронессы: на ее счету в банке оставалось всего лишь триста тысяч франков, и двадцать четыре тысячи годового дохода сократились теперь до восемнадцати. В течение трех лет Вирт всячески старался спасти положение! После сообщения банкира Мальвина без ведома матери отказалась от собственного выезда, продала лошадей и карету и рассчитала кучера. Обстановку особняка, служившую уже десять лет, обновить не представлялось возможным; но вся она износилась в равной мере, а для любителей гармонии — это уже полбеды. Баронесса — прекрасно сохранившийся цветок — напоминала теперь съежившуюся розу, прихваченную морозом и случайно уцелевшую на кусте до середины ноября. Я собственными глазами мог наблюдать, как мало-помалу, оттенок за оттенком, полутон за полутоном таяло благосостояние этой семьи. Грустное зрелище! Честное слово! Это было мое последнее огорчение. Затем я подумал: «Что за нелепость принимать так близко к сердцу чужие дела!» Во время своей службы в министерстве я имел глупость интересоваться домами, куда бывал зван на обеды, защищал принимавших меня людей, если о них злословили, сам никогда не клеветал на них, никогда не... Словом, я был ребенком!
Когда дочь объяснила баронессе истинное положение вещей, бывшая жемчужина воскликнула: «Бедные мои дети! Кто ж теперь будет шить мне платья? Значит, у меня не будет больше свежих чепчиков! Я не смогу устраивать приемы и выезжать в свет!» — Как, по-вашему, по какому признаку узнается влюбленный мужчина? — вдруг сам себя прервал Бисиу. — Требуется установить, действительно ли Боденор был влюблен в эту блондиночку.
— Влюбленный запускает свои дела, — ответил Кутюр.
— Трижды в день меняет сорочки, — сказал Фино.
— Предварительно один вопрос, — вмешался Блонде, — может и должен ли выдающийся человек влюбляться?
— Друзья мои, — сентиментальным тоном продолжал Бисиу, — как ядовитой гадины, остерегайтесь мужчины, который, почувствовав себя влюбленным, говорит, прищелкнув пальцами или отшвырнув сигарету: «Вот еще! Свет на ней не клином сошелся!» Правительство, впрочем, найдет применение такому гражданину в Министерстве иностранных дел. Заметь, Блонде, что Годфруа оставил дипломатическую службу.
— Значит, он был влюблен по уши. Ведь только любовь может обогатить душу глупца, — отозвался Блонде.
— Блонде, Блонде, почему же мы с тобой так бедны? — воскликнул Бисиу.
— И почему так богат Фино? — подхватил Блонде. — Я объясню тебе это, сынок, ведь мы понимаем друг друга. Смотри, Фино наливает мне столько вина, как будто я принес ему охапку дров. Но в конце обеда вино надо только медленно прихлебывать. Итак, что было дальше?
— Так вот, влюбленный по уши, как ты сказал, Годфруа заводит близкое знакомство с рослой Мальвиной, легкомысленной баронессой и маленькой танцоркой. Он дает обет послушания и строго до мелочей выполняет его. О, его не отпугнули бренные останки былой роскоши! Он даже постепенно привык ко всей этой рухляди. Зеленый китайский шелк с белыми разводами, которым была обита мебель в гостиной, не казался ему ни выцветшим, ни старым и грязным, ни требующим замены. Гардины, чайный столик, китайские безделушки, украшавшие камин, люстра в стиле рококо, вытертый до основы поддельный кашмирский ковер, фортепьяно, чайный сервиз в цветочках, салфетки с бахромой и с дырочками, в испанском вкусе, гостиная в персидском стиле со всем ее убранством, голубая спальня баронессы — все в этом доме казалось ему священным и неприкосновенным. Только женщины недалекие, у которых красота затмевает ум, сердце и душу, могут внушить такую беззаветную страсть, ибо женщина умная никогда не злоупотребит своими преимуществами; нужно быть ничтожной и глупой, чтобы завладеть мужчиной.
Боденору — он сам мне в этом признавался — нравился всегда торжественный Вирт! Старый плут относился к своему будущему хозяину с таким же благоговением, как набожный католик к святому причастию. Честнейший Вирт был одним из тех немецких Гаспаров, любителей пива, которые прячут хитрость под личиной добродушия, подобно тому как средневековый кардинал прятал кинжал в рукаве одежды. Угадав в Годфруа мужа для Изоры, Вирт опутывал его сетью замысловатых слов и словечек с истинно эльзасским добродушием — самым клейким из липких веществ. Госпожа д'Альдригер была глубоко неприлична, она считала любовь самой естественной вещью на свете. Когда Изора и Мальвина отправлялись вдвоем на прогулку в Тюильри или Елисейские поля, где должны были встретиться с молодыми людьми своего круга, мать говорила им: «Хорошенько веселитесь, дорогие мои девочки!» Злословить о них могли только друзья, но они-то как раз и защищали обеих сестер, ибо салон д'Альдригеров был единственным местом в Париже, где царила полная непринужденность. Даже имея миллионы, трудно было бы устраивать такие вечера; здесь велись обо всем остроумные беседы, не обязателен был изысканный туалет, и каждый чувствовал себя до такой степени просто, что мог даже напроситься на ужин. Обе сестры писали, кому вздумается, и преспокойно получали письма под носом у матери; баронессе и в голову не приходило спросить, о чем им пишут. Эта чудесная мать позволяла своим дочерям извлекать выгоды из ее эгоизма — в некотором смысле удобнейшей черты человеческого характера, ибо эгоисты, не желая, чтобы их стесняли, сами никого не стесняют и не осложняют жизнь окружающих терниями советов, шипами укоризны или назойливостью осы, что разрешает себе слишком пылкая дружба, желающая все знать и всюду сующая свой нос...
— Ты растрогал меня до глубины души, — заявил Блонде, — но, друг мой, ведь ты не рассказываешь, а зубоскалишь!..
— Если бы ты не был пьян, Блонде, я огорчился бы! Из нас четверых Блонде единственный по-настоящему смыслит в литературе. Ради него я оказываю вам честь и обращаюсь с вами, как с гурманами, перегоняю и процеживаю свое повествование, а он меня критикует! Друзья мои! Нагромождение фактов — вернейший признак умственного бесплодия. Суть искусства в том, чтобы выстроить дворец на острие иглы, доказательством тому служит великолепная комедия «Мизантроп». Магическая сила моей мысли — в волшебном жезле, который в десять секунд (время, нужное, чтобы осушить этот бокал) может обратить песчаную равнину в Интерлакен. Неужели вы хотели бы, чтоб мой рассказ несся стремительно, как пушечное ядро, или походил на донесение главнокомандующего? Мы болтаем, смеемся, а этот журналист, этот ненасытный книгоненавистник, требует с пьяных глаз, чтобы я втиснул свое живое слово в нелепую книжную форму! (Бисиу притворился, что плачет.) Горе французской фантазии! Хотят притупить острие ее шуток! Dies irae! Оплачем же «Кандида», и да здравствует «Критика чистого разума», символика, все эти теории в пяти томах убористого шрифта, изданных немцами, которые и не подозревали, что уже в 1750 году эти теории были выражены в Париже в немногих остроумных словах, блестках нашего национального гения. Блонде — самоубийца, шествующий во главе процессии на собственных похоронах, — это он-то, сочиняющий для своей газеты последние слова великих людей, которые скончались, ничего не сказав!
— Ну, дальше, дальше! — попросил Фино.
— Я хотел объяснить вам, в чем счастье человека, не являющегося акционером (реверанс в сторону Кутюра!). Так вот, разве вам не ясно теперь, какой ценой Годфруа добился самого полного счастья, о котором только может мечтать молодой человек?.. Он изучал Изору, он хотел быть уверенным, что она поймет его!.. Взаимопонимание бывает лишь там, где есть подобие. А всегда подобны самим себе лишь небытие и бесконечность. Небытие — это глупость, бесконечность — это гений. Влюбленные строчили друг другу глупейшие в мире послания, исписывая надушенную бумагу модными в ту пору словечками: «Ангел! Эолова арфа! Мы с тобой нераздельное целое! Я мужчина, но и в моей груди бьется чувствительное сердце! Слабая женщина! О я, несчастный!» Словом, вся ветошь современной души. Годфруа не мог высидеть больше десяти минут ни в одной гостиной; беседуя с женщинами, не старался им нравиться, — и они решили, что он очень умен. Другого ума, кроме того, что ему приписывали, у него, впрочем, не было. Судите сами о степени его влюбленности: Джоби, лошади, экипажи — все отошло для него на второй план. Он бывал счастлив, лишь сидя в покойном кресле у зеленого мраморного камина, против баронессы, не спуская глаз с Изоры и беседуя за чайным столом в тесном кругу друзей, собиравшихся каждый вечер между одиннадцатью и двенадцатью часами на улице Жубер, где всегда можно было без риска перекинуться в картишки (я там постоянно выигрывал). Когда Изора кокетливо выставляла свою ножку в черном атласном башмачке, Годфруа подолгу любовался ею; потом, пересидев всех гостей, он говорил ей: «Дай мне твой башмачок...» Изора поднимала ножку, ставила ее на кресло, снимала башмачок, протягивала его Годфруа и дарила его при этом взглядом, и каким взглядом... словом, сами понимаете! Годфруа в конце концов заметил, что и у Мальвины есть тайна. Если в дверь стучал дю Тийе, яркий румянец, заливавший ее щеки, докладывал: «Фердинанд!» Когда бедняжка смотрела на этого двуногого тигра, глаза ее загорались, как тлеющий уголь на ветру; Мальвина сияла от счастья, если Фердинанд уединялся с нею в оконной нише или у столика, чтобы поболтать. Какое редкостное и прекрасное зрелище — женщина, так сильно влюбленная, что становится наивной и позволяет читать в своем сердце! Бог мой, это такая же редкость в Париже, как поющий цветок в Индии. Несмотря на эту дружбу, начавшуюся с того самого дня, как д'Альдригеры появились у Нусингенов, Фердинанд не женился на Мальвине. Наш жестокий друг дю Тийе не проявил ни малейшей ревности к Дерошу, усиленно ухаживающему за Мальвиной: ибо для того, чтобы иметь возможность полностью уплатить за приобретенную контору из приданого, которое, по его расчетам, составляло не менее пятидесяти тысяч экю, Дерош — эта судейская крыса — прикинулся влюбленным. Мальвина была до глубины души оскорблена безразличием дю Тийе, но слишком его любила, чтобы закрыть перед ним двери дома. В душе этой порывистой, глубоко чувствующей и пылкой девушки то гордость уступала любви, то оскорбленная любовь позволяла взять верх гордости. Наш друг Фердинанд принимал эту любовь с холодной невозмутимостью, он вдыхал аромат ее, спокойно наслаждаясь, как тигр, облизывающий свою окровавленную пасть; он являлся к Мальвине за все новыми доказательствами ее любви и чуть ли не через день бывал на улице Жубер. У этого негодяя к тому времени было уже около миллиона восьмисот тысяч франков, приданое как будто не должно было играть для него существенной роли, а он устоял не только против Мальвины, но и против баронов де Нусингена и де Растиньяка, которые вдвоем заставляли его проделывать, как на почтовых, по семидесяти пяти лье в день по лабиринтам своей хитрости и даже без путеводной нити. Не выдержав, Годфруа заговорил как-то со своей будущей свояченицей о нелепом положении, в которое она себя ставит. «Вы хотите пожурить меня за Фердинанда и проникнуть в тайну наших отношений? — сказала она с полной откровенностью. — Никогда больше не касайтесь этого вопроса, милый Годфруа. Ни происхождение Фердинанда, ни его прошлое, ни его богатство здесь никакой роли не играют, так что считайте, что это случай исключительный». Впрочем, через несколько дней Мальвина отвела Боденора в сторону и сказала ему: «Господин Дерош не производит на меня впечатление человека порядочного (вот что значит инстинкт в любви), он как будто намерен на мне жениться, а ухаживает между тем за дочерью какого-то лавочника. Мне бы очень хотелось знать, не приберегает ли он меня на крайний случай и не является ли для него брак просто денежной операцией?» При всей своей проницательности Дерош не сумел разгадать дю Тийе и боялся, как бы тот не женился на Мальвине. Предусмотрительный малый оставлял поэтому для себя лазейку, так как положение его становилось невыносимым: за вычетом всех расходов, его заработка едва хватало на уплату процентов по долгу. Женщины ничего не смыслят в подобных делах. Сердце для них — всегда миллионер!