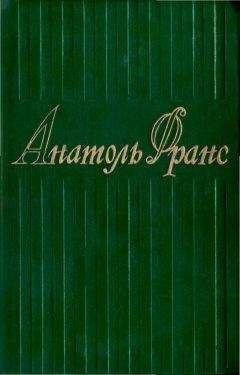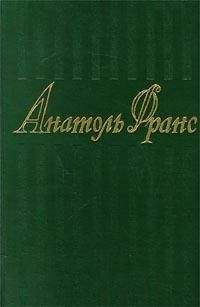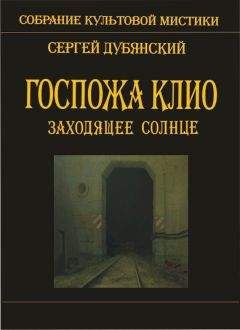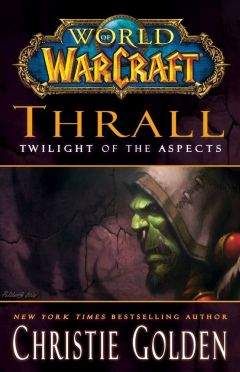— У некоторых наших поступков, — сказала г-жа Мартен, — тот же вид, то же лицо, что и у нас; они наши дети. Иные вовсе на нас не похожи.
Она встала и взяла генерала под руку. Княгиня, проходя в гостиную под руку с Гареном, сказала:
— Тереза права… Иные вовсе на нас не похожи. Как негритята, прижитые во время сна.
Поблекшие нимфы на гобеленах напрасно улыбались гостям, не замечавшим их.
Госпожа Мартен со своей молодой родственницей, г-жой Беллем де Сен-Ном, разливала кофе. Она сделала комплимент Полю Вансу по поводу того, что он сказал во время обеда.
— Вы судили о Наполеоне с независимостью мысли, какую редко приходится встречать в светских разговорах. Я замечала, что очень красивые дети, когда надуются, напоминают Наполеона в вечер Ватерлоо. Вы открыли мне глубокие причины этого сходства.
Потом, обратившись к Дешартру, спросила:
— А вы любите Наполеона?
— Сударыня, я не люблю революцию. А Наполеон — это революция в ботфортах.
— Отчего же вы, господин Дешартр, не сказали этого за столом? Впрочем, понимаю: вы только в укромных уголках согласны быть остроумным.
Граф Мартен-Беллем проводил мужчин в курительную, Поль Ванс один остался с дамами. Княгиня Сенявина спросила его, кончил ли он свой роман и каков его сюжет. Это было произведение, в котором он стремился достичь правдивости, основанной на целой логической цепи вероятностей, приводящих в совокупности своей к чему-либо бесспорному.
— Только таким путем, — сказал он, — роман может приобрести нравственную силу, которая вовсе не свойственна истории, грубо попирающей мораль.
Она спросила, для женщин ли эта книга. Он ответил, что нет.
— Вы, господин Ванс, не правы, что не пишете для женщин. Ведь это именно то, что может сделать для них человек незаурядный.
А на вопрос, чем вызвана у нее эта мысль, она ответила:
— Тем, что все умные женщины, как я вижу, выбирают дураков.
— С которыми им скучно?
— Разумеется. Но мужчины, стоящие выше общего уровня, наскучили бы им еще больше. У них для этого еще больше возможностей… Однако расскажите мне сюжет вашего романа.
— Вы этого хотите?
— Я ничего не хочу.
— Ну, так вот: это очерк народных нравов, история молодого рабочего, трезвого и целомудренного, красивого, как девушка, с нетронутой и замкнутой душой. Он резчик и работает хорошо. Вечера он проводит дома подле матери, которую очень любит. Он учится. Он читает. Мысли застревают в его простом, незащищенном уме, как пули в стене. Потребностей у него нет. Нет у него ни страстей, ни пороков, которые привязывают к жизни. Он одинок и чист. Одаренный высокими добродетелями, он начинает ими гордиться. Живет он среди жалких скотов. Он видит страдания. Он самоотвержен, но не человеколюбив; у него то холодное милосердие, которое называют альтруизмом. Человечности в нем нет, потому что нет чувственности.
— Вот как! Чтобы быть человечным, надо быть чувственным?
— Разумеется, княгиня. Жалость живет в недрах нашего тела, как жажда ласк — на поверхности кожи. Он же недостаточно умен, чтобы испытывать сомнения. Он верит в то, что читал. А читал он, что для создания всеобщего счастья стоит лишь разрушить общество. Его терзает жажда мученичества. Однажды утром, поцеловав мать, он уходит: он подстерегает депутата своего округа, социалиста, бросается на него и с возгласом: «Да здравствует анархия!» — вонзает ему долото в живот. Его арестовывают, измеряют, фотографируют, допрашивают, судят, приговаривают к смерти и гильотинируют. Вот вам мой роман.
— Он будет не слишком веселый, — сказала княгиня. — Но это не ваша вина: анархисты ваши так же робки и умеренны, как все прочие французы. Русские, когда принимаются за это дело, проявляют больше смелости и фантазии.
Графиня Мартен подошла к Полю Вансу и спросила, не знает ли он того кроткого господина, который еще не проронил ни слова, а только оглядывается по сторонам с видом заблудившейся собаки. Его пригласил ее муж. Она не знает его имени, вообще ничего не знает о нем.
Поль Ванс мог только сказать, что это сенатор. Он однажды случайно видел его в Люксембургском дворце[32], в галерее, где помещается библиотека.
— Мне хотелось взглянуть на купол, расписанный Делакруа, — на античных героев и мудрецов среди голубоватых миртовых рощ. Вид у этого господина был и тогда несчастный и жалкий; он грелся. От него пахло сырым сукном. Он беседовал со старыми коллегами и, потирая руки, говорил: «Доказательством того, что в нашей республике — наилучший образ правления, для меня служит тот факт, что в тысяча восемьсот семьдесят первом году она за неделю смогла расстрелять шестьдесят тысяч восставших и не утратила популярности. После подобной репрессии любой другой режим стал бы невозможным».
— Так он презлой человек, — заметила г-жа Мартен. — А я-то жалела его, потому что на вид он такой застенчивый и неловкий!
Госпожа Гарен, уронив голову на грудь, безмятежно дремала. Ее хозяйственную душу тешило сонное видение: огород на высоком берегу Луары, где ее приветствовали члены хорового общества.
Жозеф Шмоль и генерал Ларивьер вышли из курительной, и глаза у них еще искрились после тех скабрезностей, которыми они только что поделились. Генерал уселся между княгиней Сенявиной и г-жой Мартен.
— Сегодня утром в Булонском лесу мне повстречалась баронесса Варбург верхом на великолепной лошади. Она мне сказала: «Генерал, как это вы делаете, что у вас всегда прекрасные лошади?» Я ей ответил: «Сударыня, чтобы иметь прекрасных лошадей, надо быть или очень богатым, или очень хитрым».
Он был так доволен этим ответом, что дважды его повторил, подмигивая.
Поль Ванс подошел к графине Мартен:
— Я узнал, как зовут сенатора: его фамилия Луайе, он вице-президент одной политической группы и автор книги, написанной в целях пропаганды под заглавием: «Преступление 2 декабря»[33].
Генерал между тем продолжал:
— Погода была отчаянная. Я стал под навес. Там уже стоял Ле Мениль. Я был в скверном расположении духа. Он же про себя издевался надо мною; я это видел. Он воображает, что если уж я генерал, так должен любить ветер, град и мокрый снег. Какая нелепость! Он мне сказал, что дурная погода ему не мешает и что на будущей неделе он уедет с друзьями охотиться на лисиц.
Наступило молчание; генерал добавил:
— Желаю ему удовольствия, но не завидую. Охота на лисиц не так уж приятна.
— Но она приносит пользу, — сказал Монтессюи.
Генерал пожал плечами.
— Лисица опасна для курятников только весною, когда кормит детенышей.
— Лисица, — возразил Монтессюи, — предпочитает курам кроликов. Она — ловкий браконьер и меньше вредит фермерам, чем охотникам. Я в этом кое-что понимаю.
Тереза в рассеянности не слушала, что говорит ей княгиня. Она думала: «Он даже не предупредил меня, что уезжает».
— О чем вы задумались, дорогая?
— Ни о чем интересном.
IV
В маленькой комнате, темной и безмолвной, было душно от множества занавесей, портьер, подушек, медвежьих шкур и восточных ковров; на кретоновой обивке стен, среди мишеней для стрельбы и поблекших котильонных значков, накопившихся за три зимы, при ярких отсветах камина блестели лезвия шпаг. На шифоньерке розового дерева, увенчивая ее, стоял, серебряный кубок — приз, полученный от какого-то спортивного общества. На столике с расписной фарфоровой доской возвышался хрустальный бокал, обвитый плющом из золоченой бронзы, а в нем — букет белой сирени; всюду в теплом сумраке дрожали отблески огня. Тереза и Робер, привычные к этой темноте, без труда двигались среди знакомых им вещей. Он закурил папиросу, она же, став спиной к огню, приводила в порядок волосы перед высоким зеркалом, в котором почти не видела себя. Но ей не хотелось зажигать ни лампы, ни свечей. Шпильки она доставала из вазочки богемского хрусталя, уже три года стоявшей на столе, у нее под рукой. Он смотрел, как быстро погружаются в рыжевато-золотистый поток волос ее ярко освещенные пальцы, а лицо ее, ставшее в тени более резким и смуглым, принимает таинственное, почти тревожащее выражение. Она молчала.
Он спросил:
— Милая, ты больше не сердишься?
Ему не терпелось получить ответ, заставить ее произнести хоть слово, и она ему ответила:
— Что же мне вам сказать, друг мой? Я могу только повторить то, что сказала, когда пришла. Я нахожу странным, что о ваших намерениях мне пришлось узнать от генерала Ларивьера.
Он видел, что она еще сердится на него, что она держится с ним сухо и неестественно, без той непринужденности, которая обычно делала ее такой очаровательной. Но он притворился, будто считает все это капризом, который скоро пройдет.
— Дорогая моя, я уже объяснял вам. Я вам говорил и еще повторяю, что встретил Ларивьера, когда только что получил письмо от Комона, напоминавшего мне о моем обещании приехать истреблять лисиц в его лесах. Я тотчас же ответил ему. Я рассчитывал сообщить вам об этом сегодня. Шалею, что генерал Ларивьер меня опередил, но ведь это неважно.