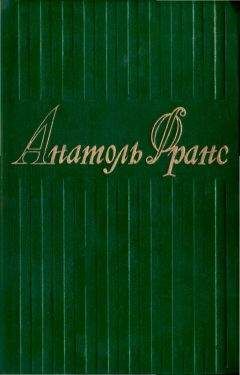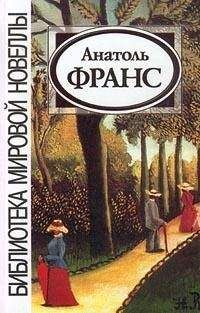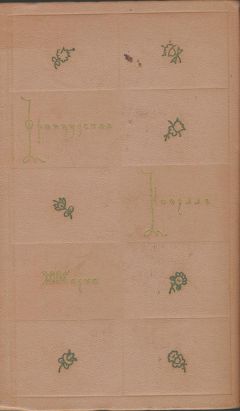Сам не зная, как он туда попал, Шевалье очутился на почти незнакомом ему мосту, посреди которого стояла огромная женская статуя. Теперь он был спокоен, он принял решение. Его уже давно волновала одна мысль, но теперь она засела у него в мозгу, как гвоздь, и захватила его целиком. Он даже не вникал в нее. Он холодно соображал, как лучше осуществить задуманное. Он шел куда глаза глядят, поглощенный своей мыслью, рассеянный, спокойный, как математик.
На мосту Искусств он заметил, что к нему пристала собака, большая лохматая дворняга с бесконечно грустными ласковыми глазами. Он заговорил с ней:
— У тебя нет ошейника, ты несчастна. Ничем не могу тебе помочь, бедняга.
В четыре часа утра он очутился на проспекте Обсерватории. Увидев знакомые дома на бульваре Сен-Мишель, он почувствовал щемящую боль и быстро повернул обратно к Обсерватории. Собака отстала. Около Бельфорского льва Шевалье остановился перед глубокой канавой, пересекавшей дорогу. У насыпи под брезентом, натянутым на четыре колышка, сидел перед жаровней старик. Уши его шапки из кроличьего меха были спущены; огромный нос пылал. Он поднял голову, слезящиеся глаза при отблеске пламени казались сплошь белыми, без радужной оболочки. Он набивал маленькую трубку дешевым табаком, смешанным с хлебными крошками; табаку не хватило и на полтрубки.
— Угостить табачком, старик? — спросил Шевалье, протягивая ему кисет.
Старик ответил не сразу. Он соображал туго и не привык к вежливому обращению. Наконец он открыл беззубый рот.
— Отказываться не приходится, — сказал он.
И приподнялся. Одна нога у него была обута в старый башмак, другая обмотана тряпкой. Он принялся медленно набивать трубку своими корявыми пальцами. Шел мокрый снег.
— Можно? — спросил Шевалье.
И подлез под брезент к старику. Время от времени они перекидывались словом, другим.
— Отвратительная погода!
— По времени и погода. Зима — она суровая. Летом лучше.
— Так вы ночным сторожем работаете, приятель?
Старик отвечал на вопросы охотно. Сперва в горле у него что-то долго негромко свистело и булькало, и только потом раздавались слова:
— Сегодня одно, завтра другое делаю. Я за всякую работу берусь.
— Вы не парижанин?
— Я родом из Крезы. Работал землекопом в Вогезах. Я сбежал в тот год, как туда пруссаки и всякие другие народы пришли…[20] Ты, парень, может, слыхал про прусскую войну?
Он долго молчал, потом спросил:
— Ты что же это, парень, без работы валандаешься? В мастерскую не идешь?
— Я драматический актер, — сказал Шевалье.
Старик не понял и спросил:
— Мастерская-то твоя где?
Шевалье захотелось похвастаться.
— Я играю на сцене в большом театре, — сказал он. — Я один из главных актеров «Одеона». Вы слыхали про «Одеон»?
Сторож покачал головой. Он не слыхал про «Одеон». После очень долгого молчания он опять открыл свой беззубый рот:
— Так, так, парень, ты, значит, гуляешь. Не хочешь обратно в мастерскую? Верно ведь?
Шевалье ответил:
— Почитайте послезавтра газету. Там будет напечатана моя фамилия.
Старик постарался понять смысл его слов; но это было ему не под силу, он отказался от такой задачи и вернулся к своим привычным думам:
— Вот так без работы иной раз несколько недель, а то и месяцев прогуляешь…
Когда стало светать, Шевалье встал и ушел. Небо было молочно-белого цвета. Колеса тяжело громыхали по мостовой. В свежем воздухе то тут, то там раздавались голоса. Снег перестал. Шевалье шел куда глаза глядят. Он даже будто повеселел, видя, как возрождается жизнь. На мосту Искусств он долго смотрел, как течет Сена, затем пошел дальше. На Гаврской площади он увидел открытое кафе. Стекла на фасаде алели в слабом свете зари. Официанты посыпали песком пол, вымощенный плитками, и расставляли столики. Он сел.
— Человек, рюмку полынной!
Миновав укрепления, Фелиси и Робер ехали вдоль безлюдного бульвара, крепко прижавшись друг к другу.
— Любишь свою Фелиси, да? Скажи!.. Разве тебе не приятно, что твою любимую обожает публика, что ей хлопают, пишут о ней в газетах? Мама наклеивает в альбом рецензии обо мне. Альбом уже заполнен.
Он ответил, что оценил ее еще до того, как она начала пользоваться успехом. И действительно, их связь началась, когда она впервые, еще скромной дебютанткой, выступала в «Одеоне» в возобновленной малоизвестной пьесе.
— Когда ты сказал, что хочешь меня, я не томила тебя долго, а? Упрашивать не пришлось. Скажи, ведь я поступила правильно? Ты слишком умен и не осудишь меня за то, что я не ломалась. С первого же раза, как я тебя увидела, я знала, что буду твоей. Так стоило ли тянуть? И я не жалею. А ты?
Экипаж остановился неподалеку от укреплений перед садом, обнесенном решеткой.
Решетка, давно уже не крашенная, завершала выложенную камешками стену, довольно низкую и довольно широкую, так что на нее могли взобраться дети. Ржавые острия решетки, до половины забранной зубчатой полосой толя, торчали на высоте трех метров от земли. В середине между двумя каменными столбами, увенчанными чугунными вазами, в решетке была двухстворчатая калитка, цельная внизу, с внутренней стороны снабженная источенными временем ставнями.
Они вышли из экипажа. В тумане вырисовывались легкие остовы деревьев, посаженных в четыре ряда вдоль бульвара. В охватившей их беспредельной тишине замирал шум колес их экипажа, который ехал обратно в Париж, да от заставы приближался стук копыт.
Она сказала, поеживаясь:
— Как грустно в деревне!
— Но какая же это деревня — бульвар де Вилье, дружочек?
Он никак не мог справиться с калиткой, замок скрипел.
Фелиси сказала с раздражением:
— Да открой ты ее, ради бога: этот скрип мне на нервы действует.
Она заметила, что экипаж, приехавший из Парижа, остановился у этого же дома, деревьев за десять от них; она посмотрела на тощую, вспотевшую лошадь, на обтрепанного кучера и спросила:
— Это еще что за экипаж?
— Это извозчик, милая.
— Почему он тоже здесь остановился?
— Он остановился не здесь. Он остановился рядом у соседнего дома.
— Рядом нет дома, там пустырь.
— Ну что ж, тогда, значит, он остановился у пустыря. Что я тебе еще могу сказать?..
— Никто из экипажа не вышел.
— Возможно, извозчик поджидает седока.
— У пустыря?
— Ну, конечно, милая… Вот беда, замок заржавел.
Прячась за деревьями, она дошла до того места, где остановился экипаж, затем вернулась к Линьи, который справился наконец с калиткой.
— Робер, шторки спущены.
— Значит, там влюбленные.
— Тебе не кажется странным этот экипаж?
— Красоты в нем мало. Но извозчичьи экипажи все такие. Входи.
— А вдруг это кто-нибудь следит за нами?
— Кому охота за нами следить?
— Почем я знаю… Может быть, какая-нибудь из твоих женщин.
Но она говорила не то, что думала.
— Входи же, милая.
— Запри как следует калитку, Робер, — сказала она, войдя.
Перед ними расстилалась овальная лужайка. В конце сада стоял самый обычный дом — крыльцо в три ступени, оцинкованные маркизы, шесть окон, черепичная крыша.
Линьи снял этот дом на год у старика приказчика, которому надоело, что всякие праздношатающиеся таскали у него кур и кроликов. Посыпанные песком дорожки огибали лужайку с обеих сторон и вели к крыльцу. Они пошли по правой дорожке. Под ногами скрипел песок.
— Опять госпожа Симоно забыла закрыть ставни, — сказал Робер.
Госпожа Симоно была жительница Нельи, каждое утро приходившая прибирать квартиру.
Сухое, словно мертвое, иудино дерево дотянулось черным изогнутым суком до самой маркизы.
— Не нравится мне это дерево, — сказала Фелиси, — у него не ветки, а какие-то огромные змеи. Одна прямо в спальню к нам лезет.
Они вошли по ступенькам. И пока он отыскивал на связке нужный ключ, Фелиси положила голову ему на плечо.
Фелиси раздевалась со спокойной гордостью, что придавало ей особое очарование. Она так безмятежно любовалась своей наготой, что сорочка у ее ног казалась белым павлином.
И когда Робер увидел ее голой и светлой, как ручьи и звезды, он сказал:
— Тебя по крайней мере не приходится упрашивать!.. Странно, есть женщины, которые сами, не дожидаясь просьб, идут тебе навстречу во всем, что только возможно, и в то же время не хотят, чтобы ты видел вот хоть столечко их голого тела.
— Почему? — спросила Фелиси, наматывая на палец легкие нити своих волос.
У Робера де Линьи был большой опыт по части женщин. И все же он не почувствовал, сколько лукавства в ее вопросе. Он был воспитан на принципах добродетели и, отвечая Фелиси, вдохновился преподанными ему уроками.