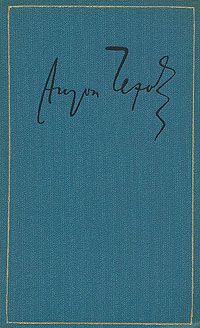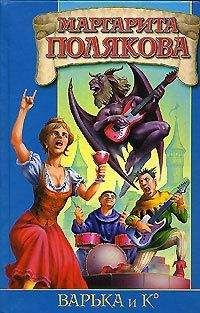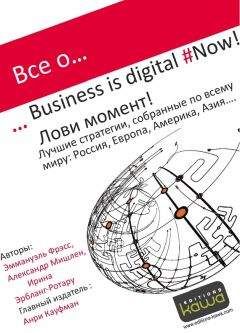– Это одни только предположения, – сказал Самойленко, садясь.
– Предположения? Но почему он едет один, а не вместе с ней? И почему, спроси его, не поехать бы ей вперед, а ему после? Продувная бестия!
Подавленный внезапными сомнениями и подозрениями насчет своего приятеля, Самойленко вдруг ослабел и понизил тон.
– Но это невозможно! – сказал он, вспоминая ту ночь, когда Лаевский ночевал у него. – Он так страдает!
– Что ж из этого? Воры и поджигатели тоже страдают!
– Положим даже, что ты прав… – сказал в раздумье Самойленко. – Допустим… Но он молодой человек, на чужой стороне… студент, мы тоже студенты, и кроме нас тут некому оказать ему поддержку.
– Помогать ему делать мерзости только потому, что ты и он в разное время были в университете и оба там ничего не делали! Что за вздор!
– Постой, давай хладнокровно рассудим. Можно будет, полагаю, устроить вот как… – соображал Самойленко, шевеля пальцами. – Я, понимаешь, дам ему деньги, но возьму с него честное, благородное слово, что через неделю же он пришлет Надежде Федоровне на дорогу.
– И он даст тебе честное слово, даже прослезится и сам себе поверит, но цена-то этому слову? Он его не сдержит, и когда через год-два ты встретишь его на Невском под ручку с новой любовью, то он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он сколок с Рудина. Брось ты его, бога ради! Уйди от грязи и не копайся в ней обеими руками!
Самойленко подумал минуту и сказал решительно:
– Но я всё-таки дам ему денег. Как хочешь. Я не в состоянии отказать человеку на основании одних только предположений.
– И превосходно. Поцелуйся с ним.
– Так дай же мне сто рублей, – робко попросил Самойленко.
– Не дам.
Наступило молчание. Самойленко совсем ослабел: лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее выражение, и как-то странно было видеть это жалкое, детски-сконфуженное лицо у громадного человека с эполетами и орденами.
– Здешний преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на лошади, – сказал дьякон, кладя перо. – Вид его, сидящего на лошадке, до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия.
– Он хороший человек? – спросил фон Корен, который рад был переменить разговор.
– А то как же? Если б не был хорошим, то разве его посвятили бы в архиереи?
– Между архиереями встречаются очень хорошие и даровитые люди, – сказал фон Корен. – Жаль только, что у многих из них есть слабость – воображать себя государственными мужами. Один занимается обрусением, другой критикует науки. Это не их дело. Они бы лучше почаще в консисторию заглядывали.
– Светский человек не может судить архиереев.
– Почему же, дьякон? Архиерей такой же человек, как и я.
– Такой да не такой, – обиделся дьякон, принимаясь за перо. – Ежели бы вы были такой, то на вас почила бы благодать и вы сами были бы архиереем, а ежели вы не архиерей, то, значит, не такой.
– Не мели, дьякон! – сказал Самойленко с тоской. – Послушай, вот что я придумал, – обратился он к фон Корену. – Ты мне этих ста рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три месяца, так вот дай мне вперед за три месяца.
– Не дам.
Самойленко замигал глазами и побагровел; он машинально потянул к себе книгу с фалангой и посмотрел на нее, потом встал и взялся за шапку. Фон Корену стало жаль его.
– Вот извольте жить и дело делать с такими господами! – сказал зоолог и в негодовании швырнул ногой в угол какую-то бумагу. – Пойми же, что это не доброта, не любовь, а малодушие, распущенность, яд! Что делает разум, то разрушают ваши дряблые, никуда не годные сердца! Когда я гимназистом был болен брюшным тифом, моя тетушка из сострадания обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умер. Пойми ты вместе с тетушкой, что любовь к человеку должна находиться не в сердце, не под ложечкой и не в пояснице, а вот здесь!
Фон Корен хлопнул себя по лбу.
– Возьми! – сказал он и швырнул сторублевую бумажку.
– Напрасно ты сердишься, Коля, – кротко сказал Самойленко, складывая бумажку. – Я тебя отлично понимаю, но… войди в мое положение.
– Баба ты старая, вот что!
Дьякон захохотал.
– Послушай, Александр Давидыч, последняя просьба! – горячо сказал фон Корен. – Когда ты будешь давать тому прохвосту деньги, то предложи ему условие: пусть уезжает вместе со своей барыней или же отошлет ее вперед, а иначе не давай. Церемониться с ним нечего. Так ему и скажи, а если не скажешь, то, даю тебе честное слово, я пойду к нему в присутствие и спущу его там с лестницы, а с тобою знаться не буду. Так и знай!
– Что ж? Если он уедет вместе с ней или вперед ее отправит, то для него же удобнее, – сказал Самойленко. – Он даже рад будет. Ну, прощай.
Он нежно простился и вышел, но, прежде чем затворить за собою дверь, оглянулся на фон Корена, сделал страшное лицо и сказал:
– Это тебя, брат, немцы испортили! Да! Немцы!
На другой день, в четверг, Марья Константиновна праздновала день рождения своего Кости. В полдень все были приглашены кушать пирог, а вечером пить шоколад. Когда вечером пришли Лаевский и Надежда Федоровна, зоолог, уже сидевший в гостиной и пивший шоколад, спросил у Самойленка:
– Ты говорил с ним?
– Нет еще.
– Смотри же не церемонься. Не понимаю я наглости этих господ! Ведь отлично знают взгляд здешней семьи на их сожительство, а между тем лезут сюда.
– Если обращать внимание на каждый предрассудок, – сказал Самойленко, – то придется никуда не ходить.
– Разве отвращение массы к внебрачной любви и распущенности предрассудок?
– Конечно. Предрассудок и ненавистничество. Солдаты как увидят девицу легкого поведения, то хохочут и свищут, а спроси-ка их: кто они сами?
– Недаром они свищут. То, что девки душат своих незаконноприжитых детей и идут на каторгу, и что Анна Каренина бросилась под поезд, и что в деревнях мажут ворота дегтем, и что нам с тобой, неизвестно почему, нравится в Кате ее чистота, и то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет, – разве всё это предрассудок? Это, братец, единственное, что уцелело от естественного подбора, и, не будь этой темной силы, регулирующей отношения полов, господа Лаевские показали бы тебе, где раки зимуют, и человечество выродилось бы в два года.
Лаевский вошел в гостиную, со всеми поздоровался и, пожимая руку фон Корену, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку:
– Извини, Александр Давидыч, мне нужно сказать тебе два слова.
Самойленко встал, обнял его за талию, и оба пошли в кабинет Никодима Александрыча.
– Завтра пятница… – сказал Лаевский, грызя ногти. – Ты достал, что обещал?
– Достал только двести десять. Остальные сегодня достану или завтра. Будь покоен.
– Слава богу!.. – вздохнул Лаевский, и руки задрожали у него от радости. – Ты меня спасаешь, Александр Давидыч, и, клянусь тебе богом, своим счастьем и чем хочешь, эти деньги я вышлю тебе тотчас же по приезде. И старый долг вышлю.
– Вот что, Ваня… – сказал Самойленко, беря его за пуговицу и краснея. – Ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела, но… почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой Федоровной?
– Чудак, но разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завопиют. Ведь я должен по лавкам рублей семьсот, если не больше. Погоди, вышлю им деньги, заткну зубы, тогда и она выедет отсюда.
– Так… Но почему бы тебе не отправить ее вперед?
– Ах, боже мой, разве это возможно? – ужаснулся Лаевский. – Ведь она женщина, что она там одна сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег.
«Резонно»… – подумал Самойленко, но вспомнил разговор свой с фон Кореном, потупился и сказал угрюмо:
– С тобою я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней или же отправь ее вперед, иначе… иначе я не дам тебе денег. Это мое последнее слово…
Он попятился назад, навалился спиною на дверь и вышел в гостиную красный, в страшном смущении.
«Пятница… пятница, – думал Лаевский, возвращаясь в гостиную. – Пятница…»
Ему подали чашку шоколаду. Он ожег губы и язык горячим шоколадом и думал:
«Пятница… пятница…»
Слово «пятница» почему-то не выходило у него из головы; он ни о чем, кроме пятницы, не думал, и для него ясно было только, но не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Перед ним стоял Никодим Александрыч, аккуратненький, с зачесанными височками и просил:
– Кушайте, покорнейше прошу-с…
Марья Константиновна показывала гостям отметки Кати и говорила протяжно:
– Теперь ужасно, ужасно трудно учиться! Так много требуют…
– Мама! – стонала Катя, не зная куда спрятаться от стыда и похвал.