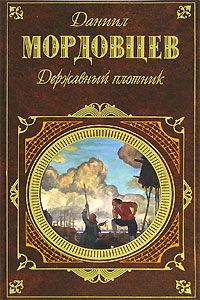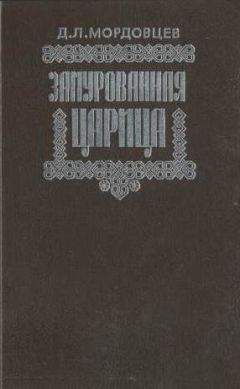Звонари оказались до того люты, что руками и зубами впивались в колокольные веревки, и освирепевшие солдаты сбрасывали их с колоколен на головы толпы. Тогда только последняя поняла, что дело ее проиграно.
– Да, вы хороший стратег, доктор, – сказал Еропкин веселому доктору, видя, как толпы частью бросились бежать врассыпную, частью же, побросав колья и топоры, безмолвно сдавались солдатам, – кто хочет овладеть Москвою, тот должен прежде всего взять колокольни.
А доктор уже бегал по этому аду, стараясь найти живых между сотнями мертвых.
Да, покойный «гулящий попик» был прав. То, о чем поведал попу Мардарью неведомый «пифик», сбылось: по Москве прошел и мор, и каменный дождь, протекла также, вместо огненной, кровавая река, по которой и бродил теперь «веселый доктор».
Ранним утром 21 сентября памятного для России 1771 года императрица Екатерина II Алексеевна, с небольшою книжкою в руках, сойдя в сад по внутренней садовой террасе Царскосельского дворца, направлялась, предшествуемая своей собачкой Муфти, в глубину парка, на богатую зелень которого осень уже налагала свою безжалостную руку. Императрица одета была в серый просторный капот, подпоясанный у талии шелковым сиреневым, с кистями такого же цвета, шнуром, и в высоком утреннем чепце со сборками. Она шла задумчиво, по временам делая движения указательным пальцем опущенной книзу правой руки, как бы мысленно на что-то указывая или отмечая и подчеркивая. Видно было, что эти подчеркивания мысли делались в ее озабоченном мозгу невольно и отражались на спокойном, сосредоточенном лице и в светлых, с двойным каким-то светом глазах.
Тонконогая и тонкомордая собачка, забегая вперед, часто возвращалась к своей госпоже, заглядывала ей в глаза, виляла хвостом, как бы желая сказать, что «ведь и я, матушка, тоже озабочена за тебя, тоже, дескать, вижу, что ты подчеркиваешь что-то в уме, и я вот подчеркиваю хвостом, да только не ведаю, что оно такое», но, видя, что хозяйка не обращает на нее внимания, она опять убегала вперед, желая показать свою ревность по службе, обнюхивала каждый кустик, накидывалась на каждого воробья, который осмеливался прыгать по царской дорожке – и снова, с чувством исполненного долга, возвращалась к императрице. Но та опять не обращала на нее внимания.
Вдруг в одном густом кусте акаций замяукала кошка, да так резко, что собачка даже припрыгнула от изумления.
Вот сюрприз! Кошка в царском парке! Собачонка и ушам своим не верит.
Кошка опять замяукала. Собачка неистово бросилась на куст и начала лаять что есть мочи. «Нашла! Нашла врага!» – слышалось в ее усердном лаянье. И собачка счастлива: она обратила на себя внимание императрицы. Мало того, даже часовой, вытянувшийся там где-то в струнку и издали сделавший ружьем на караул, и он добродушно улыбался, поглядывая почтительно то на императрицу, то на собачку, то на предательский куст.
– Не трогай ее, Муфти! – сказала императрица, приближаясь. – Она тебя оцарапает.
Собачонка залаяла еще неистовее, да так и уткнула морду в куст. Но вдруг она завиляла хвостом, запрыгала, да так радостно, что саму императрицу занял этот восторженно виляющий хвост.
– Что, Муфти, кошка там?
Кошка снова замяукала и фыркнула. Собачонка закувыркалась от радости и бросилась к императрице.
– Чему рада, глупая собачка?
Собачонка восторженно залаяла, желая что-то объяснить, но, не имея другого органа гласности, кроме хвоста и бестолкового языка, она только закувыркалась.
– Верно, знакомая кошка?
Но из куста вдруг показалась голова в напудренном парике и снова замяукала. Часовой невольно фыркнул, сцепив зубы.
– А! Это ты, повеса, – весело сказала императрица. – Вот наделал тревоги Муфти.
Из куста во весь рост встал мужчина в одежде придворного сановника.
– Опять за старое принялся, проказник? – продолжала императрица, ласково улыбаясь.
– Как за старое, матушка-государыня? – отвечал царедворец, кланяясь.
– За мяуканье...
– Помилуй, матушка-государыня, это самое новое, самое новое дело мяуканье, даже, можно сказать, государственное дело, – отвечал вельможа.
– Как государственное, повеса?
– Да как же, матушка, не государственное: ныне коты во времени.
Императрица бросила на него лучи двойного света из своих немножко расширенных зрачков и, улыбаясь, ждала объяснения шутке.
– Да как же, матушка! Вон киевский кот сколько тревоги наделал тамошнему генерал-губернатору Федору Матвеичу Воейкову.
– Да, да, тумульту наделал изрядного.
– Как же-с! А султан турецкий, сказывают, этому Ваське-киевскому, за учинение им зла врагу султанову – великой царице северной Пальмиры, обещал прислать орден шнурка, коли Васька останется цел.
Императрица задумчиво улыбалась.
– Ах, Левушка, Левушка, ты все такой же повеса остался, как тогда, помнишь, еще в молодости.
«Повеса», или «шпынь», как его называл Фонвизин, Лев Александрович Нарышкин, или вернее «Левушка», комически махнул рукой, – конечно, на молодость...
В это время на аллее показались две фигуры, торопливо шедшие по направлению к императрице. В руках одного из них была папка с бумагами, у другого – небольшая чернильница, утыканная перьями и карандашам.
– А! Кровопийцы идут, мухи государственные, что вам, матушка, и дохнуть не дадут, все на ухо жужжат, – заметил Левушка, гримасничая.
– Да, Лева, много нам дела, теперь не до мяуканья, – грустно сказала императрица.
Пришедшие были неизменные докладчики наиболее важных дел по внутреннему государственному управлению, генерал-прокурор князь Вяземский и генерал-фельд-цейхмейстер граф Григорий Орлов.
Они издали почтительно поклонились императрице и остановились.
– С добрым утром, – ласково сказала государыня – что же вы не идете?
– Не смеем, ваше величество, приблизиться, – тоном пасмурного сожаления отвечал Вяземский.
– Почему же так? – несколько дрогнувшим голосом спросила Екатерина;
– Бумаги с нами, государыня, из неблагополучного места, из Москвы, – отвечал Орлов.
– Что же такое? Что там? – еще тревожнее спросила императрица.
– Простите, ваше величество, – нерешительно заговорил Вяземский, – курьеры прискакали из Москвы с эстафетами экстренными.
– Давайте же их мне, – рванулась императрица.
И Вяземский, и Орлов несколько отступили назад. Они казались смущенными. Императрица заметно побледнела.
– Что же, наконец, там? Давайте бумаги!
– Выслушайте, государыня, и не извольте тревожиться, – по-прежнему, не торопясь, начал Вяземский, – зная ваши матернии попечения о своих подданных, для блага коих вы готовы жертвовать вашим драгоценным здоровьем, мы осмелились не допустить этих эстафет до ваших рук, трепеща за вашу жизнь, и сами вскрыли их, приняв должные предосторожности. По тому же самому мы и не осмеливаемся приблизиться к особе вашего величества.
– Благодарю, благодарю вас, но я желаю знать, что же там, – несколько покойнее сказала Екатерина.
– В Москве неблагополучно, ваше величество. Вот что доносит Еропкин.
Императрица вошла в ближайший павильон, а за нею и докладчики. Князь Вяземский развернул бумагу и погрозил собачке, которая хотела было к нему подойти. Тогда Левушка взял собачку за ошейник и уложил на ближайшую скамейку:
– Куш-куш, не подходи к ним, они бука.
Вяземский откашлялся и начал читать:
– «К беспримерному сожалению, ожидание превосходящей бедства и ужаса наполненный случай необходимо обязывает меня, всемилостивейшая государыня, и сверх моего рапорта генерал-фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову, как своему собственному командиру, все нижайше представить и от себя о том происшествии, которое подвергало столичный вашего императорского величества город наисовершенному бедствию, состоящем в том, что народ, негодуя доднесь на все в пользу их повеленные от вашего императорского величества мне учреждения о карантенах и других осторожностях, озлились как звери и сего месяца 15 дня сделали настоящий бунт, вбежав в Кремль и разоряя архиерейский дом, искали убить оного. Но, как съехал сей бедный агнец скрытно в монастырь Донской, то выбежав и туда в безмерном пьянстве, злодеи до трехсот, 16-го поутру, убили оного мучительски до смерти».
Екатерина в ужасе всплеснула руками: «Боже мой!» Она была бледна. Зрачки глаз расширились.
Все молчали.
– Ну, что же еще? Прошу, продолжайте, – в голосе ее слышались слезы.
Вяземский продолжал, но так тихо, что едва слышно было:
«Карантены учрежденные разорили, выпустя из Данилова монастыря и из другого двора, состоящего на Серпуховской дороге, разбив дубьем и каменьями стоявшего на карауле офицера, сопротивлявшегося им, как и подлекаря, в одном их тех карантенов находившегося; а другие из злодеев, вбежав в Кремль, пробыли там всю ночь и до половины дня, бив в набат везде, разоряя и дом доктора Меркенса. В злодействе сем находились боярские люди, купцы...»