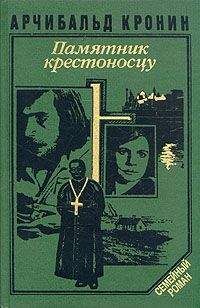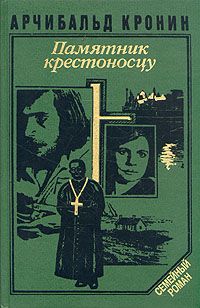— Сколько же это составило?
— Почти десять тысяч фунтов. Конечно, — поспешила пояснить Каролина, — на руки она получила гораздо меньше, но проценты оказались такие неслыханные, что в результате долг ее вылился в эту сумму. Это было самое настоящее вымогательство, шантаж, если угодно, но отец решил уплатить, чтобы его не таскали по судам, так как против мамы, конечно, был бы возбужден процесс. «Лучше с честью разориться, — сказал он, — чем вынести еще и этот позор…»
— В дополнение к тому, которым я покрыл его, — мягко докончил за нее Стефен.
Она отвернулась и некоторое время смотрела печальным и в то же время осуждающим взглядом на панораму печных труб, расплывавшуюся за неровным оконным стеклом.
— А разве Хьюберт ничем не мог помочь? Или Джофри?
Она отрицательно покачала головой.
— Им самим нелегко приходится. Хьюберта совсем замучили налоги и высокие ставки, которые он был вынужден установить рабочим. Фруктовый сад не дает больше никакой прибыли. А Джофри, насколько мне известно, заложил Броутон. — Помолчав немного, она добавила: — Мы вообще почти не видим их.
— М-да! — сказал он наконец. — Мама, конечно, пожила в свое удовольствие. И я в известном смысле всегда восторгался ею; делала все, что хотела. А где она сейчас?
Каролина выпрямилась, затем сдавленным голосом, с видом человека, вынужденного открыть последнюю мучительную тайну, сказала:
— В частной психиатрической клинике в Дулвиче.
Стефен с минуту смотрел на нее удивленными глазами, затем громко расхохотался. Каролина побелела: пораженная и расстроенная, она глядела на него, не в силах слова вымолвить от возмущения. Господи боже, что с ним такое, как он может так постыдно вести себя? Она вспомнила слова Клэр, которая в одной из своих долгих бесед с нею, пытаясь оправдать Стефена, сказала, что все художники — люди крайне неуравновешенные. Неужели он тоже не вполне нормален? Она в тревоге нагнулась к нему и потрясла его за плечо.
— Не смей! Ты что, с ума сошел?
— Извини, пожалуйста, — сказал он, совладав, наконец, с собой. — Мне просто показалось это занятным окончанием удивительно веселой жизни.
— Веселой! Да у тебя нет сердца! Мне… мне стыдно за тебя.
— Послушай, Кэрри, не надо всех подряд жалеть, в том числе и себя. Я знал людей, чья жизнь, была куда более тяжкой, чем твоя сейчас или когда-либо прежде. Я жил в Испании у одной старой слепой женщины. Трудно представить себе, как она существовала: вечно полуголодная, чуть не замерзая зимой и едва дыша от зноя летом, она не только жестоко страдала от нужды, но и познала весь ужас полного одиночества, и все же никогда не жаловалась. Не надо так унывать.
— Да как же я могу не унывать, когда все так плохо? Если бы еще ты был хорошим сыном, жил дома, стал священником и помогал отцу управляться с делами, в том числе и с мамой, мы бы сейчас по-прежнему жили в Стилуотере. Ты пользовался бы любовью, уважением…
— А теперь меня ненавидят и презирают…
— Стефен! — она снова нагнулась к нему и даже просительным жестом положила ему руку на плечо. — Ведь и сейчас еще не поздно. Ты так нужен отцу. Он все еще…
— Ради всего святого, Кэрри! — резко оборвал он ее. — Ты же знаешь, что я женат. Неужели ты хочешь, чтобы в вашем четырехкомнатном домике поселились еще мы двое? Право же, у тебя гениальная способность предлагать совершенно немыслимые вещи.
— В таком случае, нам не о чем больше говорить. — Она вздохнула, натянула мокрые нитяные перчатки и взяла свой искалеченный зонт.
— Постой, — остановил он ее, внезапно вспомнив что-то. — Разве это заведение в Дулвиче не из самых дорогих? Откуда же вы берете столько денег?
— Нам помогает Клэр. Она так добра. — И Кэрри добавила: — Я как раз еду к маме. Тебя это, конечно, нисколько не интересует, но она часто говорит о тебе.
— В таком случае, не поехать ли мне с тобой? Я бы с удовольствием навестил ее.
Каролина в изумлении уставилась на него, не зная, принимать ли его слова всерьез или считать очередной выходкой этой странной натуры, и только было хотела высказать свое одобрение, как он лишил ее этой возможности, сказав со странной усмешкой:
— Сегодня плохое освещение и писать все равно нельзя.
Внизу у конторки Стефен уплатил по счету, они вышли из кафе, пересекли площадь и, подождав немного на вокзале, сели в поезд, направлявшийся на южную окраину Лондона. Путешествие это было недолгое и, миновав дымный грязный район центрального Лондона, они вскоре прибыли в Дулвич, где легче дышалось и было, к счастью, сухо. Психиатрическая лечебница, расположенная на пустыре, недалеко от станции, помещалась в изъеденном непогодой сером каменном особняке, похожем на замысловатый баронский замок, с двумя башнями, зубчатым фронтоном и стрельчатыми окнами в готическом стиле; в начале Викторианской эпохи это было, по всей вероятности, поместье с большими угодьями, огороженное высокой кирпичной стеной, утыканной заостренными железными наконечниками. У входа Каролина показала пропуск, и привратник повел их к дому по усыпанной гравием аллее, обсаженной высокими вязами. По другой аллее мирно и степенно вышагивали, совершая ежедневную прогулку, обитатели этого дома — их темные силуэты четко вырисовывались на фоне серого неба. Другие больные, видимо принадлежавшие к более скромной общественной категории, неторопливо ковырялись в огороде. Направо, вдалеке, виднелась лужайка, обнесенная тисовой изгородью, и там два джентльмена среднего возраста лениво играли в теннис, перебрасывая мячи через провисшую сетку. На соседней лужайке несколько дам с крокетными молотками гоняли через ворота шары. А рядом, в беседке с красной черепичной крышей, сидела группа мужчин и женщин под присмотром няни, и оттуда то и дело доносились взрывы смеха. Повсюду царила атмосфера отрешенности и покоя, что вместе с запахом гниющих листьев и растений, обилием самшита, темной листвою кустов, скрывающих полуразрушенный грот, где среди папоротников стояла греческая статуя — к несчастью, разбитая, — и высокими готическими башнями создавало впечатление чего-то нездешнего, нереального, величественного и застывшего.
У главного подъезда они позвонили, и их провели через вестибюль, выложенный черными и белыми мраморными плитами, в приемную, обставленную, пожалуй, несколько вычурно и старомодно, но солидно: тяжелые драпировки, мебель в стиле буль — вдоль каждой из стен стояло по четыре стула. Здесь тоже чувствовалась какая-то жизнь: в соседней комнате слышались негромкие голоса и веселое позвякивание спиц, а откуда-то сверху доносились звуки штраусовского вальса, который кто-то громко барабанил на таком разбитом и глухом пианино, что Стефен отчетливо представил себе, как мелькают пожелтевшие клавиши под бурным натиском пальцев. Под мелодичные звуки «Сказок Венского леса» перед ними и предстала Джулия, заботливо подталкиваемая сзади чьими-то руками.
Она стояла перед ними, переводя взгляд с сына на дочь и улыбаясь с тем отрешенным видом, который даже в минуты самых тяжких домашних неурядиц отличал ее. Она была в платье с пышной юбкой, отделанном — сообразно ее представлениям о моде — кружевами, с газовым шарфом вокруг шеи и розовым бантом на каждом из запястий; волосы ее были завиты «а-ля-Помпадур», лицо обсыпано пудрой, — казалось, будто это белая маска с бархатными, обведенными чернотой глазами; в общем Джулия производила впечатление женщины эксцентричной, но интересной и элегантной.
— Как вы сегодня чувствуете себя, мама? — спросила Каролина.
— По обыкновению, хорошо. Я всегда хорошо себя чувствую в дни под знаком Стрельца.
— Видите, Стефен приехал навестить вас.
— Значит, ты вернулся из Парижа? — Не обращая внимания на Каролину, Джулия подошла и с самым радушным видом опустилась на стул подле него. — Ну, как тебе понравились французы?
— Приятные люди. И так же приятно повидать вас.
— Спасибо, Стефен. Ты по-прежнему живешь с той женщиной? Ну, с той самой, которой так опасался твой отец?
— Нет. Я решил для разнообразия остепениться.
— Неужели вы не помните, мама? — поспешно вмешалась Каролина, желая предотвратить дальнейшие бестактности, и с готовностью, страдальческим голосом пояснила: — Стефен ведь давно вернулся из Франции. С тех пор он уже успел побывать в Испании.
— Ах, в Испании… Помню, когда меня девочкой отец возил в Мадрид, мы изрядно намучились с лакеем, который не желал кипятить для нас воду…
— А сейчас, — упорно следуя своей линии, продолжала Каролина, — он работает над своими картинами в Лондоне.
— Да, конечно, — кивнула Джулия и, снова повернувшись вполоборота к Каролине, обратилась к Стефену: — Ты ведь пишешь картины. Я только на днях вспомнила, как ты совсем маленьким мальчиком любил ходить по галерее в Хейзелтон-парке с моим милым папочкой — это было до того, как он продал картины и занялся геликоптерами. Однажды мы даже решили, что ты пропал или, может быть, утонул в озере. Поднялся страшный переполох. А потом тебя нашли в картинной галерее; ты сидел совсем один на полу перед какой-то картиной.