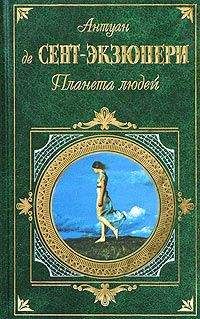Так запеленает тебя кокон пустыни. На третий день шаги твои увязнут в смоле её нескончаемости. Соперник всегда возбуждает, и на удар ты отвечаешь ударом. Но пустыня берёт один твой шаг за другим, будто затянувшаяся аудиенция — твои любезности, до тех пор, пока ты в конце концов не замолчишь. Ты шагаешь по пескам с самой зари, но меловое плоскогорье, что слева от тебя, — на горизонте, осталось там и к вечеру. Ты изнуряешь, изнашиваешь себя, ты как ребёнок, что перебрасывает лопаткой землю, задумав переместить гору. Но гора и не подозревает, как старательно он трудится. Ты словно бы заблудился в свободе без границ, и усердие твоё при последнем издыхании. В этих паломничествах я предлагал своему народу вместо хлеба камень, насыщал колючками. Мой народ, я обрекал тебя на дрожь от ночного холода. Отдавал огнедышащей песчаной буре, и ты ложился на землю, прикрывал одеждой голову, чувствовал на зубах скрип песка и отдавал солнцу свою телесную влагу. Но опыт научил меня: слова утешения здесь излишни.
— Наступит вечер, похожий на синеву моря, — мог бы сказать я. — Задремлют барханы, будто стога. Ты будешь идти в прохладе по твёрдому влажному песку...
Но на губах у меня останется привкус лжи, своими выдумками я призову к существованию в тебе кого-то, непохожего на тебя. Поэтому в безмолвии моей любви я без обиды слушаю твои проклятья.
«Возможно, Ты прав, Господи! Возможно, завтра, Господи, выживших Ты преобразишь в толпу блаженных. Но что нам до этих незнакомцев! Сейчас мы словно пригоршня скорпионов, обведённых огненным кругом!»
Такими они и должны быть во славу Твою, Господи!
Вдруг, будто взмахом сабли сметя облака с неба, налетел свирепый северный ветер. Выдул с голых песков всё тепло до капли. Ледяные лучи звёзд пронзили плоть до костей, пригвоздив людей к земле. Что мне сказать им?
Разгорится заря, хлынет свет. Тепло солнца, будто кровь, разогреет замёрзшее тело. Вы закроете глаза, чувствуя, как оно растекается по жилам...
Но они ответят мне:
— Вместо нас Господь, может, и посадит тут завтра сад со счастливыми цветами и по своей доброте будет питать их. Но этой ночью мы — несжатая полоска ячменя, которую треплет ветер.
И они должны быть такими во славу Твою, Господи!
Я отошёл в сторону от страдальцев и так стал молиться:
— Господи, благо, что они отказались пить мою ложь. Они плачут и жалуются, но не это главное, я — хирург, починяю тело, оно издаёт крик.
Я знаю, в них вмурованы и запасы радости, но не мне отвалить камень. Для радости не подошло ещё время. Плод должен созреть, тогда он станет сладок. Мы проходим неизбежный час горечи. В нас нет ничего, кроме разъедающей кислоты. Только время вылечит нас и преобразует в радость во славу Твою!
И я повёл свой народ дальше, питая его камнями, насыщая колючками.
И наконец мы сделали поначалу ничем не отличимый от других бессчётных шагов, отданных пространству, волшебный шаг. Торжественный шаг, увенчавший священнодействие пути. Благословенный шаг среди всех прочих шагов: распался кокон и отдал крылатое своё сокровище царству света.
Так веду я своих воинов ужасами войны к победе, ночным мраком к свету, тяжестью камней к храму, пустыней грамматики к певучему стиху, отвесными склонами и пропастями к пейзажу, открывшемуся с вершины горы. Мы в пути, и мне нет дела до твоего отчаяния и тревог, не доверяю я и сентиментальным гусеницам, которым мнится, что они влюблены в полёт. Мне нужно, чтобы гусеница пожрала самое себя в пекле пересотворения. Нужно, чтобы ты пересёк свою пустыню.
У тебя нет доступа к источнику радости, спрятанному в тебе, но ты должен проторить к нему дорогу. Ты оказался изобретательнее и выиграл партию в шахматы; как ты радостен, но не в моей власти подарить тебе радость за так, обойдя священнодействие игры.
Поэтому я и хочу, чтобы на ступеньке, где священнодействие — ковка гвоздей и обстругивание досок, пелись песни кузнецов и плотников, а не песня корабля. Я предлагаю тебе невеликую победу — гладкую доску, выкованный гвоздь, — но она обрадует твоё сердце, если ты стремился и желал их. Ты ни на что не променяешь бревно, если жаждешь построить корабль.
Но я видел: человек, играя в шахматы, тайком позёвывал и отвечал на ход противника так безразлично-снисходительно, словно его, давно зачерствевшего сердцем, принудили возиться с детьми.
— Гляди, какой у меня флот! — говорит семилетний капитан, показывая на белые камешки.
— Прекрасный флот, — соглашается зачерствелый сердцем, тупо глядя на камешки.
Самолюбивому тщеславцу, что не пожелал всерьёз вжиться в священнодействие шахматной игры, не дастся и вкус победы. Если из тщеславия ты не возведёшь в божество доски и гвозди, тебе не построить корабль.
Книжный червь, который не знает, что значит строить, предпочитает, в силу утончённости, песню корабля песне плотников и кузнецов, а когда корабль оснащён, спущен на воду и летит вперёд с толстощёкими парусами, он, не желая замечать неустанное борение с морем, поёт о волшебных островах, — да, конечно, острова — главное и в ковке гвоздей, и в обстругивании досок, и в борении с морем, но только если ты не пренебрёг ни одной из ступенек, ведущих тебя к преображению. Когда ты преобразишься, ты увидишь, как из морской пены поднимается остров. Но тот, кто, едва взглянув на первый гвоздь, зашлёпает по тёплой жиже мечты, воспевая разноцветных колибри и сумерки на коралловом атолле, вызовет у меня только отвращение к этим птичкам, потому что мне по вкусу ноздреватый ломоть хлеба, а не сладкий компот, я в него не верю, я — с островов дождя, где живут серые птицы, и, чтобы поманить меня иным райским островом, нужна песня, что всколыхнёт во мне бесцветное небо и серых птиц.
Но я, который не строил храма без камней, который добирался до сути, только преодолев разброд и разноголосицу, я, который не говорил о цветах вообще, а только вот об этом одном — с пятью лепестками алого цвета, я, который ковал гвозди, стругал доски и принимал на себя напор мускулистого моря, только я могу спеть для тебя об острове, плотном и весомом; я своими руками извлёк его из морских глубин.
То же скажу я и о любви. Книжный червь славит её вселенскую полноту. Его гимны не помогли мне никого полюбить. Отдельная, частная привязанность проторила мне к ней дорогу. У неё свой собственный голос. Особенная улыбка. Нет ей подобий. А вечером, облокотившись на подоконник, я окунулся не в своё отдельное озерцо, а словно бы узрел лик Господа. Потому что каждому из нас нужна подлинная тропинка, она сворачивает здесь и здесь, она белая от пыли, с шиповником на обочине. По такой тропинке ты непременно куда-нибудь придёшь. Умирающий от жажды идёт в мечтах к роднику. И умирает.
То же скажу я и о жалости. Ты говоришь мне о страдании детей и вдруг видишь: я зеваю. Ты никуда меня не привёз. Ты сообщил: «При кораблекрушении утонуло десять детей...» Что мне арифметика? Я не запла́чу в десять раз сильнее, если число погибших удвоится. Вдобавок со дня основания царства погибли десятки тысяч детей, а мы всё-таки рады жизни и порой чувствуем себя счастливыми.
Я заплачу о том ребёнке, к которому ты приведёшь меня настоящей тропкой. Благодаря моей розе я увидел все остальные, благодаря твоему ребёнку я почувствую всех остальных и заплачу, но не обо всех на свете детях — обо всех на свете людях.
Однажды ты рассказал мне о конопатом хромоногом мальчишке, он пришёл в деревню неведомо откуда, и жители деревни возненавидели безродного попрошайку.
— Зачем нам этот уродец? — возмущались они. — Чирей на благородном лице нашей деревни.
Повстречав его, рассказчик спрашивал:
— Эй ты, конопатый, у тебя что, отца нет?
Тот молчал.
В друзьях у него были только козы, бараны, деревья, и рассказчик, бывало, задавал ему и такой вопрос:
— Чего не играешь со сверстниками?
Тот молча пожимал плечами. Сверстники швыряли в него камнями: урод-хромонога, пришёл из уродской страны, где всё плохо и всё не так!
Иногда он отваживался подойти к играющим; красивые, складные мальчики вставали враждебной стенкой:
— Вали отсюда, краб ползучий! Твоя деревня от тебя отказалась, так ты вздумал уродовать нашу? У нас добротная деревня, в ней все прочно стоят на ногах!
И ты видел, как молча поворачивался и отходил хромоножка, припадая на больную ногу.
Повстречав его опять, ты спрашивал:
— Эй ты, конопатый, у тебя что, нет матери?
Он молчал. Быстро взглядывал на тебя исподлобья и краснел.
Тебе казалось, что он должен быть озлоблен, полон горечи, ты не мог понять, откуда в нём спокойная кротость. Но он был кроток. Да, он был таким вот, а не иным.
Пришёл день, когда крестьяне взялись за палки, решив прогнать его прочь:
— Хромое отродье! Пусть ищет себе места где хочет, нечего ему делать в нашей деревне!
Ты защитил его и спросил:
— Эй ты, конопатый, неужели у тебя и брата нет?