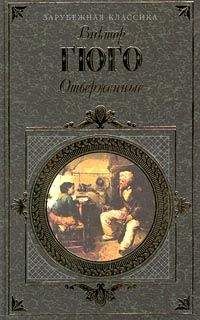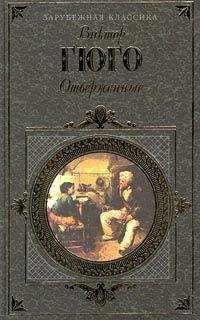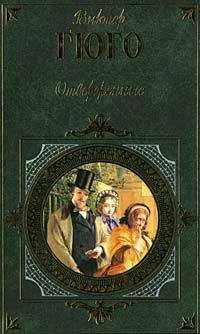Кроме филологической основы, на которую мы только что указали, у арго имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, разумом человека.
Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка — то, что можно было бы назвать его строительным гранитом. Арго кишит словами такого рода, словами стихийными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных, — словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач — кат; лес — оксым; страх, бегство — плет; лакеи — лакуза; генерал, префект, министр — ковруг; дьявол — дедер. Нет ничего более странного, чем эти слова, которые и укрывают и обнаруживают. Некоторые, например дедер, гротескны и страшны и производят на вас впечатление гримасы циклопа.
Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора-загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиома более метафорического, чем арго. Отвинтить орех — свернуть шею, хрястать — есть; венчаться — быть судимым; крыса — тот, кто ворует хлеб; алебардит — идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя сомкнутому строю наклоненных пик ландскнехтов и умещающая в одном слове народную метонимию: дождит алебардами. Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком, первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть дедером и становится пекарем, — тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля, Еврипиду после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантасмагории. Потьмушники мозгуют стырить клятуру под месяцем (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видеть видишь, но что это такое — не ведаешь.
В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него на удачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко, с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого арго, оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов — прямого словотворчества и метафоры: Кэб брешет, сдается, пантенова тарахтелка дыбает по оксиму — собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу. Фраер — балбень, фраерша — клевая, а баруля фартовая — хозяин глуп, его жена хитра, а дочь красива. Чаще всего, чтобы сбить с толку слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание айль, орг, ерг или юш. Так: Находитайль ли выерг это жаркоюш хорошорг? — находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к привратнику, чтобы узнать, удовлетворяет ли его сумма, предложенная за побег. Окончание мар стали прибавлять сравнительно недавно.
Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, стараясь скрыть свою сущность, оно, только-только почувствовав, что оно разгадано, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания, здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь; это безвестная, проворная, никогда не прекращающаяся работа. В десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык — за десять столетий. Таким образом larton, хлеб, становится lartif; gail, лошадь, — gaye; fertanche, солома, — fertille; momignard, малыш, — momacqe; fiques, одежда, — frusques; chique, церковь, — ergugeoir; colabre, шея, — colas. Дьявол сначала хаушень, потом дедер, потом пекарь, священник — скребок, потом кабан; кинжал — двадцать два, потом перо, потом булавка; полицейские — кочерги, потом жеребцы, потом рыжие, потом продавцы силков, потом легавые, потом фараоны; палач — дядя, потом Шарло, потом кат, потом костыльщик. В XVII веке бить — угощать табаком, а в XIX — натабачить. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша Ласнеру показался бы китайской грамотой. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим.
Однако время от времени, именно вследствие этого движения, старое арго возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тампль сохраняла арго XVII века; Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил арго Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на анш старых подданных этого царства. Ты пьеанш? (ты пьешь?) Он верианш (он верит). Но вечное движение не перестает оставаться его законом.
Если философу удается удержать на мгновение «тот беспрестанно улетучивающийся язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Нет исследования более действенного, плодотворного и поучительного. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах арго, которые не содержали бы наглядного урока. У этих людей бить — значит прикидываться; они бьют болезнь — прикидываются больными: их сила — хитрость.
Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь — потьмуха; человек — темник. Человек — производное от ночи.
Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу; о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек — больной; человек осужденный — мертвый.
Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу чистая. В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удается перепилить кандалы, первая его мысль — о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу скрипка. Имя — это сердцевина; многозначительное уподобление! У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных деяниях он называет сорбонной, другую, которой он платится, отрубком. Когда у человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце — ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом gueux — нищий, то он готов на преступление, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями — нуждой и злобой; поэтому арго не говорит gueux, оно говорит reguise — навостренный. Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется хворостье. Наконец, каким же словом злодей называет тюрьму? Академия. Целая исправительная система может родиться из одного слова.
У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», те, кого можно обокрасть, — вы. я, любой прохожий: pantre. (Pan — все люди.)
Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях lirlonfa?[50] Так вот, послушайте.
В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом — десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плиты пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки на некотором расстоянии одна от другой свешивались цепи длиною в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладиной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, на дрожащих, подкашивающихся ногах, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и, просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них уже не просыпались. Чтобы поесть, они, при помощи ступни одной ноги, поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах, при приближении галеры, сначала слышали песню, а уж потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: Только рифмы меня и поддерживали. Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни арго. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхоличный припев галеры Монгомери: Тималумизен, тимуламизон. Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна песенка — нежная: