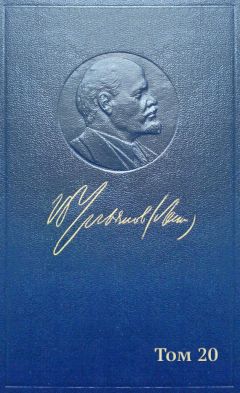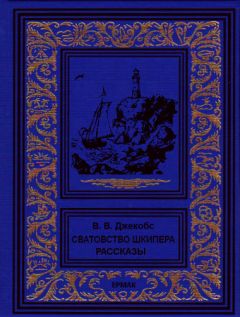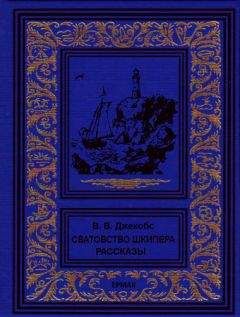— Ай! — прошептала Сонечка, как котенок, но Алексей Алексеевич погрозил ей и в третий раз постучал…
Ответа не было.
— Села в бест! — сказал генерал уныло. — Надолго. И он пошел к себе, а Сонечка поднялась наверх в антресоли, села в кресло к окну, вздохнула и открыла томик — «Вешние воды».
«Не виновата, — подумала Сонечка, — и ничего такого не сделала».
Вздохнула еще раз, но уже легче, и наклонилась над книгой, чувствуя сладкую грусть от одного только названия повести.
Сонечке шел девятнадцатый год. Светловолосое личико ее было детское, с нежным ртом, с синими, еще мало осмысленными глазами. Все же она была очень хорошенькая девушка, среднего роста, в холстинковом платье, слегка неловкая и застенчивая, но в неловкости ее было очарование здоровой прелести девятнадцати лет.
Прочтя несколько страниц, Сонечка подняла голову и поглядела в окно на сухую ветку, на которой вот уже полчаса сидела старая ворона, вертела головой.
«Вот глупая», — подумала Сонечка и, начав новую страницу, забыла предыдущее, заглянула назад, — ах, да, — и несколько раз с наслаждением прочла любимое место.
Кончилась глава, в ушах звенело, и Сонечка, глядя перед собой, уже не видела вороны: откинувшись на спинку стула, мечтала она, ставя себя на место героини. Герой всегда был один и тот же.
На нем — доверху застегнутый черный сюртук, прядь черных волос падает на белый лоб, жгучие, честные глаза ищут кого-то. Он выходит из той вон боковой аллеи, держа шляпу в руке. Полы сюртука отдувает ветер. Он ищет — кого? Он думает — о ком?
Себя Сонечка считала недостойной его — слишком глупой. Но все же герой нашел ее жгучими своими глазами. Он подошел; он говорит о возвышенном. Сонечка обмирает. Он берет ее руку. — Идем! — Ведет в беседку…
Дальнейший ход мыслей был таков, что Сонечка вставала, на цыпочках шла к умывальнику, мочила конец полотенца в холодной воде и прикладывала к вискам. Затем бывало раскаяние в грешных мыслях, но все же они повторялись все чаще и чаще, все труднее было с ними совладать.
Сегодня Сонечка отложила книгу, вынула из рабочего столика шелк, канву, наперсток, поставила ноги на скамеечку и, сжав колени, прилежно стала вышивать.
«Как же с бабушкой? — думала она. — Может быть, обойдется, а уж я все сделаю, — постараться бы с дедушкой быть меньше вдвоем».
Сквозь окно слышался стук ножей на кухне. Где-то курица, должно быть, снеся яйцо, тихо стонала — не в силах закричать. Петух разволновался и заорал, захлопал крыльями. Плелась по двору собака, наступая лапами на обрывок веревки. В безветренном, словно полинявшем небе плавал коршун, высматривая цыплят.
Скучно и томительно в июльский зной сидеть у окна, глядя на опустевший двор усадьбы. Весь народ в поле. На усадьбе осталась только стряпуха, которая с утра до ночи печет ржаные хлебы, отправляемые вместе с солью, бараньим салом и пшеном в поле, или, угорев от печи, выскакивает из людской на двор и кричит благим голосом, требуя расчета и скребя волосы на голове. Но на крики ее никто не отвечает, разве приехавший с работ приказчик лениво выругается и плюнет, и она с ревом бросится назад в пекарню.
Да еще двое белоголовых мальчиков — один в штанах, другой без штанов — возятся на куче золы, набивая золой продранный валенок.
Жарко, безветренно и тихо. Глаза у Сонечки слипаются, игла скользит из пальцев. Пойти бы к деду, да нельзя. Искупаться бы, да вода такая теплая, что по всему телу от нее зуд. Хорошо где-нибудь в густом лесу у ручья, в траве. Вода журчит. Голова у Сонечки клонится.
В полдень не легче и Алексею Алексеевичу. Пять раз подходил он к генеральшиной двери, говоря то шутя, то ласково:
— Полно, Степочка, отвори. Ей-богу, я раскаиваюсь. А?
Заманчиво представляется ему сидеть сейчас в генеральшиной комнате: там прохладно, не то что в обращенном на юг кабинете, где нагрелась кожа дивана от солнца, бьющего сквозь спущенную парусиновую штору, и по мокрому лицу ползают мухи.
В генеральшиной спальне можно развалиться в кресле у окна, закурить сигарку и, попивая что-нибудь прохладительное, посмеяться над давешней историей. А теперь без Степаниды Ивановны даже квасу не добьешься.
— Ей-богу, видишь: вот я и перекрестился, никогда больше не стану подносом бросать, и вообще… — в отчаянии говорил генерал, шестой раз подойдя к двери.
— Что тебе надобно? — ответила, наконец, Степанида Ивановна ледяным голоском.
— Мириться, мириться! — Алексей Алексеевич радостно потянул дверную ручку. — Ну, полно же тебе.
— Я спрашиваю: что тебе от меня надо? Генерал опешил.
— Как что? Я думал…
— А что ты думал, когда убивал меня подносом?
— Степочка!
— Я до сих пор дрожу от страха, — может быть, ты сейчас войдешь и зарежешь меня.
— Степочка! — воскликнул Алексей Алексеевич, тоскуя в темном коридорчике. — Прости меня, я все сделаю.
— Ах, мне ничего от тебя не нужно, я скоро умру.
— Боже мой, что же тебе нужно?
Степанида Ивановна помолчала, потом сказала тихо:
— Напиши письмо Смолькову…
— Кому? — спросил генерал, хотя ясно услышал. — Кому?
— Смолькову, — громко сказала генеральша. — Я хочу, чтобы он сюда приехал.
Алексей Алексеевич нахмурился. Степанида Ивановна громко принялась стонать и сморкаться.
«Все равно, — подумал Алексей Алексеевич. — Смольков не хуже других, черт с ним, руки не отвалятся».
Так состоялось примирение, и было отослано в Петербург княгине Лизе Тугушевой политическое письмо, где говорилось, что супруги Брагины хотели бы видеть у себя Смолькова, а в Р.S. сделана пометка: гостит у нас Сонечка Репьева, милая и прелестная девушка-Письмо отправили на почту с нарочным, и Степанида Ивановна, приласкав, наконец, растроганного супруга, приказала заложить коляску, чтобы ехать в монастырь.
Монастырь лежал под горкой в густом вишневом саду. Пирамидальные тополя росли вдоль невысоких стен, сложенных из камней когда-то бывшей здесь в давние времена крепости.
У монастырских ворот стояли заколоченные балаганы для продажи съестного во время праздников. Длинные стены, фруктовый сад, келейки уходили в дубовую рощу, откуда вытекал и по сухим листьям и веткам бежал под стену и в сад студеный ключ.
В саду на полянках, очищенных от вишенника, — под грушей или яблоней, — стояли мазанные из глины, выбеленные кельи. У каждого порога лежало по камню для отдохновения, и на двери был нарисован синею краской осьмиконечный крест. В глубине сада, там, где сходились проторенные в траве тропки, над зеленью дерев поднимались полинявшие луковицы древнего храма с железными крестами.
Теперешняя игуменья, мать Голендуха, не пожелала, чтобы монашенки жили порознь в далеко одна от другой стоящих кельях. Являлось от этого великое баловство, особенно в апреле месяце, когда сокращали службы, чтобы более оставалось времени для садовых работ. Монашенки тогда ходили, как пьяные, в черных своих рясках, щеки их загорали, и напевы духовных стихов смущали не одного прохожего за белой стеной, а мать Голендуха только вздыхала, говоря: «Какое же это ангельское пение? — один блуд».
Поэтому, с благословения архиерея, собственным иждивением был построен деревянный дом близ церкви… В одной половине его, лицом в сад, находились трапезная и келья игуменьи, а в другой, окнами на скотный двор и курятники, — кельи сестер.
— Пусть их на курей посмотрят, — говорила мать Голендуха. — Куря всегда ногой в навозе зерно найдет, значит имеет настоящую веру. А мои-то: подай им того, сего — пирогов да моченых яблоков, а сами только и норовят о скоромном шептаться.
О пастве мать Голендуха мнения была неважного:
— Тоже вот в прошлое Христово воскресение сестра Клитинья двадцать пять яиц за раз съела, — двадцать ведь пять… Соборовали. Я ее стыдить: как, говорю, с таким брюхом на тот свет полезешь? Ничего, отдыхалась, — чистая корова, прости, господи.
Росту мать Голендуха была небольшого, «о сложения тучного. Вся насквозь она пропиталась кислым ладаном, что особенно усугубляло веселость, которую испытывал, встречаясь с нею, каждый.
Монашенки боялись игуменьи, как огня. Бывало, в зимние вечера, собираясь у длинного стола трапезной вышивать воздухи, бисерные кошельки, колпачки на ламповые стекла или скатерти, слушали они, шурша работой, как мать Голендуха разговаривала, попивая грушевый квас:
— Что же вы, дуры, думаете, что вас всех и заберут в рай? Да ведь, не к ночи будь помянуто, дьявол должен чем-нибудь пропитать себя…
— Где уж нам! — отвечала самая шустрая из сестер и вздыхала прилично. — Нам-то хоть бы смирение показать.
— Закрой рот, — говорила мать Голендуха и стучала кружкой. — Разговорилась! За язык возьмут тебя черти, дура оглашенная, и станут держать во веки веков.