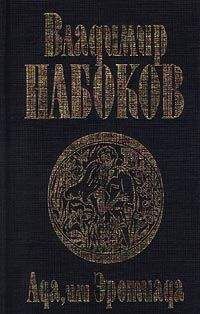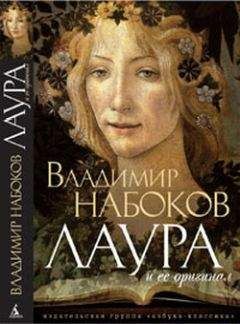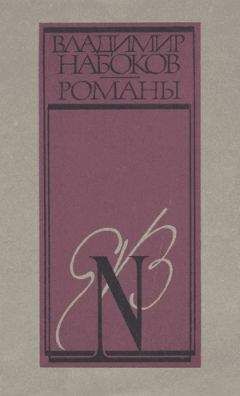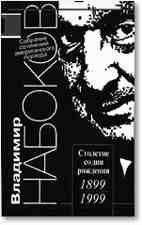— Бедняжка, как она нервна! — заметила Ада, потянувшись через Вана к пачке бумажных платков. — Можешь теперь заказывать завтрак — хотя… О, какой восхитительный вид! Похвально! В жизни не видала мужчину, чтоб так мгновенно восстанавливался.
— Сотни шлюх и множество красоток и поопытней будущей миссис Виноземской говорили мне то же.
— Пусть я не отличаюсь прежней сообразительностью, — грустно сказала Ада, — только знаю я одну особу, это не просто кошка, это блудливая кошка, и зовут ее Кордула Тобакко, она же мадам Извращенская. В сегодняшней утренней газете сообщается, что во Франции девяносто процентов кошек мрут от рака. Интересно, как обстоит с этим дело в Польше.
После определенной паузы он обожал [sic! — Ред.] блины. Люсетт, однако, так и не вернулась, и когда Ада, по-прежнему в своих алмазах (значит, до утренней ванны поимела по меньшей мере еще одну порцию caro[416] Вана с одним «кэмелом») заглянула в комнату для гостей, то обнаружила, что белый саквояж и голубые меха исчезли. К подушке была приколота записка, выведенная зеленой подводкой «Арлен»:
Другой такой ночи не вынесу можно помешаться еду в Верма кататься на лыжах с прочими жалкими шерстистыми гусеницами недели на три несчастная
Pour Elle[417].
Подойдя к аналою, приобретенному в монастыре, чтобы при писании поддерживать позвоночное мышление в вертикальности, Ван начертал следующее письмо:
Бедняжка Л.!
Очень огорчились, что ты так скоро ушла. Еще более для нас огорчительно, что вовлекли нашу Эсмеральду и русалочку в отвратительные шалости. Никогда впредь, милая жар-птичка, не будем мы играть с тобой в такие игры. Про. про. (просим прощения). Мысленное отражение, брожение и жжение прекрасного толкает художников и безумцев к непредсказуемости. Известно, что зеленый глаз и золотистый локон сводят с ума и пилотов мощных авиалайнеров, и даже грубых вонючих ямщиков. Нам хотелось любоваться тобой, позабавить тебя, РАП(райская птица)! Мы зашли слишком далеко. Мы раскаиваемся в постыдном, хоть в основе своей невинном, поступке. Нам предстоит исправить многое после столь глубокого потрясения. Зачеркни все и забудь!
С любовью, твои А. & В. (в алфавитном порядке)
— По-моему, написано до омерзения высокопарно и благонравно! — заметила Ада, проглядев Ваново письмо. — С чего это нам просить у нее «про», ведь благодаря нам она испытала восхитительную спазмочку? Я ее люблю и ни за что не позволю тебе ее обидеть. И, знаешь, забавно — что-то в тоне твоего письма впервые в моей крови [в рукописи именно это слово вместо «жизни». — Ред.] распаляет настоящую ревность. Ах Ван, Ван, когда-нибудь, в один прекрасный день, после солнечной ванны или танца, ты, да-да, Ван, непременно с нею переспишь!
— Разве только у тебя кончится любовное зелье! Так ты позволишь мне послать ей, что я написал?
— Посылай, только прежде я кое-что припишу. Адин P.S. выглядел так:
Приведенное выше заявление принадлежит Вану, и я подписываюсь под ним неохотно. Оно высокопарно и благонравно. Боготворю тебя, моя крошка, и ни за что не позволю ему, ни ненароком, ни в сердцах, тебя обидеть. Когда тебе наскучит Куин, может, слетаешь в Голландию или Италию?
А.
— А теперь выйдем, глотнем свежего воздуха? — предложил Ван. — Прикажу, чтоб седлали Пардуса с Пег.
— Прошлой ночью меня узнали двое, — сказала Ада. — Два совершенно разных калифорнийца, но поклониться не осмелились — при том бретёре в атласном смокинге, что был при мне и шарил взглядом по сторонам. Один из них — продюсер по имени Анскар, другой, с кокоткой, — Поль Винье, лондонский приятель твоего отца. Я как бы надеялась, что мы снова в постель…
— Мы сейчас выйдем и отправимся верхом в парк, — железным тоном сказал Ван и первым долгом позвонил, чтоб воскресный посыльный передал письмо для Люсетт в отель или отправил на курорт в Верма, если она уже съехала.
— Надеюсь, ты соображаешь, что делаешь? — заметила Ада.
— Именно! — кивнул он.
— Ты разбиваешь ей сердце, — сказала Ада.
— Адочка, обожаемая детка моя! — вскричал Ван. — У меня внутри зияющая пустота! Я прихожу в себя после длительной и ужасной болезни. Ты проливала слезы над моим недостойным шрамом, но отныне жизнь превращается для нас в неизбывную любовь и радость, в кукурузу сахарную! Я не способен заботиться о чужих разбитых сердцах, мое тоже едва склеено. Ты накинешь голубую вуаль, я сделаю себе накладные усы и стану походить на своего учителя фехтования Пьера Леграна.
— Аи fond[418], — сказала Ада, — кузен с кузиной имеют полное право ездить вместе верхом. Даже танцевать и кататься на коньках, если пожелают. В конце концов, кузен с кузиной почти что брат с сестрой. Сегодня хмурый, леденящий, безветренный день.
Вскоре она была готова, они нежно поцеловались в вестибюле между лифтом и лестницей, расставаясь всего на несколько минут.
— Башня! — шепнула она в ответ на его вопросительный взгляд, точь-в-точь как говорила в те былые медовые утра, утверждаясь в радости. — А тебе?
— Сущий зиккурат!
После некоторого выведывания им удалось напасть на след фильма «Молодые и обреченные»{131} — повторно его показывали в маленьком кинотеатре, специализировавшемся на Ярких Вестернах (как прежде именовались эти барханы псевдоискусства). Вот во что выродились «Скверные дети» (1887) мадемуазель Ларивьер. У нее было — замок во Франции, двое подростков-близнецов подсыпают яду своей вдовствующей матушке, совратившей юного соседа, любовника сестрички. Автор сюжета многократно шла на уступки свободным нравам эпохи, а также пошлым фантазиям сценаристов; но, как и исполнительница главной роли, она полностью отреклась от того, что получилось в итоге многочисленных вторжений в сценарий и вылилось под конец в историю некого убийства в Аризоне, жертвой которого стал вдовец, собравшийся жениться на проститутке-алкоголичке, которую Марина, не без оснований, воплощать отказалась. Однако бедная Адочка схватилась за предложенную рольку, двухминутный эпизод в трактире (roadside tavern). Во время репетиций ей казалось, что она неплохо справляется с образом соблазнительной официантки — пока режиссер не заявил, что она нескладна, как «заторможенная вобла». Ада не решалась смотреть на конечный продукт и не горела желанием показывать его Вану, однако он напомнил, что тот же самый режиссер, Г.А. Вронский, некогда утверждал, что с ее внешностью Ада запросто сможет когда-нибудь стать дублершей Ленор Коллин, которая в свои двадцать была так же прелестно неуклюжа, и так же, проходя в кадре, гнула спину и втягивала голову в плечи. Отсидев рекламную короткометражку Я.В., они дождались-таки показа «Молодых и обреченных», но, увы, кадры с официанткой из эпизода в баре оказались вырезаны — хотя, как вежливо подметил Ван, совершенно явно просматривалась тень от Адиного локтя.
Назавтра в их маленькой гостиной с черным диваном в желтых подушках и непродуваемым эркером, новое стекло которого, казалось, увеличивает медленно, беспрерывно и отвесно падавший снег (совпадая с печатным изображением на обложке брошенного на подоконник последнего номера журнала «Франт & бабочка»), Ада пустилась в обсуждение своей «артистической карьеры». В душе Вана воротило от этой темы (по контрасту прежняя ее страсть к естествознанию отдавала ностальгическим очарованием). Ван считал, что слово писателя существует исключительно в своей умозрительной чистоте, в своей неповторимой притягательности для равно абстрактного склада ума. Оно принадлежит только своему создателю и не может быть произносимо или воплощаемо мимически (на чем настаивала Ада), потому что чужой ум нанесет смертельный удар художнику прямо на ложе его искусства. Рукописная пьеса по сути своей превосходит даже лучшую из ее постановок, пусть даже режиссером выступит сам автор. С другой стороны, Ван соглашался с Адой в том, что звучащий экран, безусловно, предпочтительней живого театрального зрелища по той простой причине, что в первом случае достигнутый режиссером высокий уровень совершенства не опустится, сколько б раз ни показывался фильм.
Ни Ван, ни Ада представить себе не могли разлуки, вызванной необходимостью ее профессионального присутствия «на натуре», и никто из них не мог возмечтать отправиться вдвоем в глазеющие места и вместе жить в То-Ли-В-Вуде, США, То-Ли-В-Делле, Англия, или в сахарно-белом «Конриц-Отеле» в Каире. По правде говоря, они иной себе жизни не представляли, кроме этой нынешней tableau vivant[419] под милым сизо-голубым манхэттенским небом.