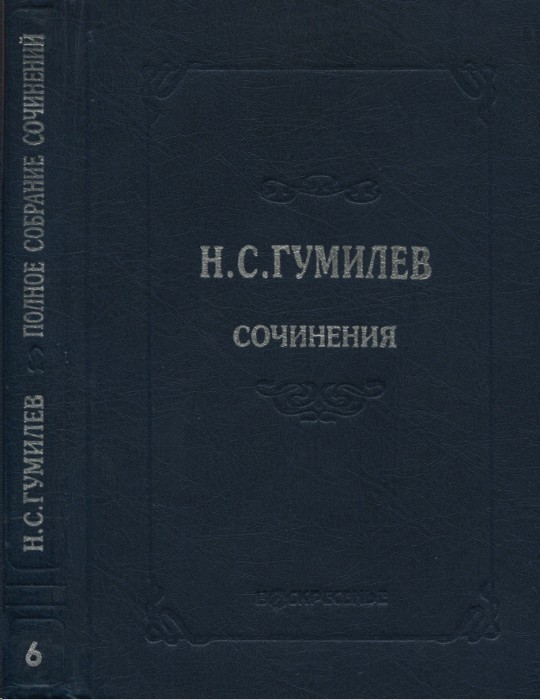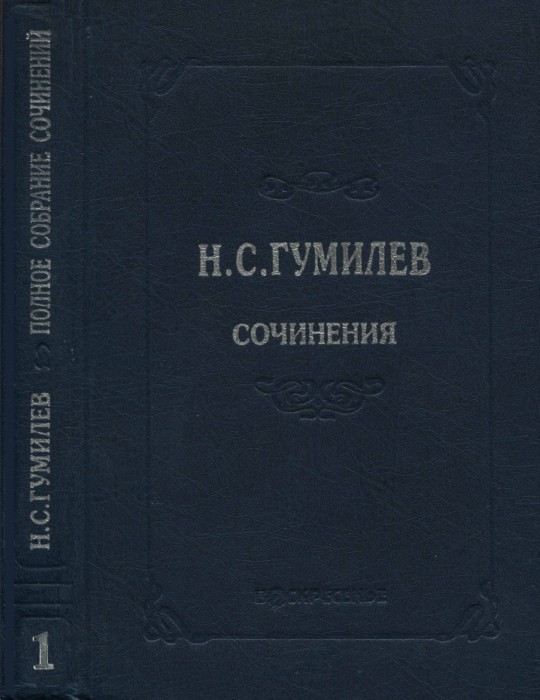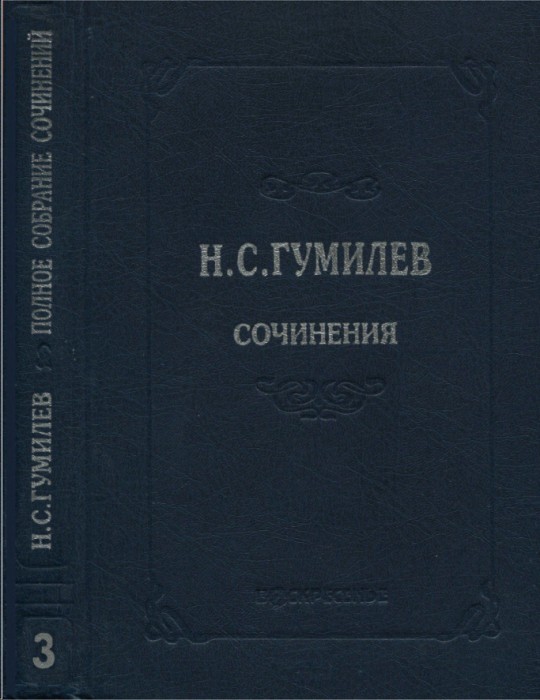музее я видел такие же письмена». В Британском музее Гумилев к тому времени еще не бывал. Если и побывал, то десятью-одиннадцатью годами позже» (Давидсон. С. 34). С чисто биографической точки зрения это верная информация. Однако упоминания «Британского музея» в этом «пирамидном» контексте не случайно. Именно в Британском музее было «светлое видение» В. С. Соловьеву, призвавшее его в Египет, где ему суждено было в 1875 г., в долине Гиза близ пирамид пережить эпифанию (см. об этом поэму Соловьева «Три свидания»). Гумилевский Грант, таким образом, «идет по следам» великого философа, который был «властителем дум» русских символистов. Стр. 66–68 — ср. со ст-нием «Озера» (№ 122 в т. I наст. изд.). Стр. 73–74 — Тьери в рассказе о посещении пирамиды ведет себя как посвященный в тайны магии и потому очень осторожный «путешественник вверх по Нилу», предпочитая мертвого «священного крокодила» — живой «задумчивой жабе». Стр. 85 — описывая «двойственную» символику амфибий в главе «Культ древа, змия и крокодила» Е. П. Блаватская пишет, в частности: «Александрийские неоплатоники утверждали, что для того, чтобы стать истинными халдеями или магами, нужно было овладеть наукою или знанием периодов Семи Правителей Мира, в которых пребывает вся Мудрость. И Ямвлиху приписывают другую версию, которая, однако, не меняет смысла, ибо он говорит: “Ассирийцы не только сохранили летопись двадцати семи мириадов лет, как утверждает это Гиппарх, но также и всех апокатастазов и периодов Семи Правителей Мира”» (Тайная доктрина I (2). С. 505). Упоминаемый в цитате Ямвлих из Халкиды (ум. ок. 330) представлял самое «мистическое» течение в неоплатонизме — направлении философской мысли, соединявшем в себе восточные элементы с греческой философией (другие представители — Аммоний Саккас, Лонгин, Плотин, Порфирий), — и принадлежал к митраистам (мистикам, исповедующим культ Солнца-Митры).
4
Весы. 1908. № 4.
ТП, СС IV, ТП 1990, ЗС, Проза 1990, СС IV (Р-т), Соч II, Круг чтения, СС 2000, ТП 2000, АО, Проза поэта, Кодры. 1989. № 4.
Дат.: 30 ноября 1907 г. (н. ст.) — по дате письма к Брюсову (ЛН. С. 453).
В первом современном опыте критического осмысления гумилевской прозы Э. Д. Сампсон отметил, что в «Радостях земной любви», несмотря на обещанное в начале противопоставление любви земной и небесной, Гумилев показывает исключительно только любовь одухотворенную и идеализированную, без малейшего оттенка чувственности. В рассказе соответственно, по мнению исследователя, отсутствует сколько-нибудь приметная сюжетная напряженность (Sampson E. D. The Prose Fiction of Nikolaj Gumilev // Berkeley. P. 273). Понятно, что вопрос о природе любви в этом рассказе продолжал занимать новое поколение гумилевоведов. Отметив, как и большинство исследователей, общую соотнесенность «Радостей земной любви» с реальными отношениями Гумилева и Анны Андреевны Горенко («обращение к истории Данте и Беатриче, затем Гвидо и Примаверы было для двух поэтов естественным...»), И. Ерыкалова придерживалась фактически того же мнения, что и Сампсон: «Написанные в стиле средневековой любовной новеллы «Радости земной любви» лишены занимательности сюжета и бытовых подробностей фабулы. Очищенные от реалистических деталей и бытовых диалогов новеллы пронизаны мистическим ощущением божественности чувств Кавальканти» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 279). Более обстоятельно трактовала эту тему М. Ю. Васильева, которая расценивала «Радости земной любви» в общем контексте гумилевского прозаического творчества. По ее мнению, Гумилев в прозе «последовательнее и глубже, чем в поэзии, постигал одно из главных положений христианского вероучения — о человеческой душе, созданной по воле Божьей». В произведениях, вошедших в сборник «Тень от пальмы» и имевших за их внешним разнообразием значительную внутреннюю общность, «Гумилев рассматривает различные человеческие чувства, располагая рассказы по принципу их усложнения. Первые три новеллы («Радости земной любви») превращаются у него в повествование о духовном выборе человека. Поклонение Гвидо Кавальканти прекрасной Примавере трудно назвать земным. Это редчайший человеческий дар, определяющая веха бытия, обусловившая путь героя в земных пределах и состояние его души в Царстве Божьем» (Васильева. С. 12–14).
Короткое специальное исследование посвятила «любовной проблематике» «Радостей земной любви» Д. С. Грачева. Исследовательница утверждает, что в этом рассказе отображаются два направления русской религиозной мысли конца XIX — начала XX веков, в «эстетическом споре» с которыми выявляется концепция любви самого Гумилева: это, с одной стороны, «идущее от В. Соловьева» возрождение и переосмысление «античной и основанной на ней гуманистической неоплатонической концепции любви, любви-Эроса, которая неразрывно связана с творчеством»; с другой стороны, ассоциирующееся с о. Павлом Флоренским, «а также с именами С. Булгакова, И. Ильина и др.» — возобновление «средневекового христианского понимания любви как caritas (сострадания, милосердия, жалости) и связанный с ним комплекс идей христианской этики, относящейся к семье, браку». Так же как и мнение Грачевой о том, что на основе «прямой отсылки к творчеству Данте Алигьери и скрытой параллели между его поэзией и поэзией А. А. Блока (цикл «Стихов о Прекрасной Даме»)» на протяжении всего рассказа ведется «косвенный спор» с Блоком, это весьма далеко идущее утверждение очевидно заслуживает более детального рассмотрения. Д. С. Грачева находит также, что в рассказе изображены «три проявления» любви: «возвышенная неземная любовь (Данте и Беатриче); возвышенная земная любовь (Кавальканти и Примаверы); и приземленная земная любовь (венецианского синьора к Примавере)». При этом «венецианский синьор представлен в качестве антипода Кавальканти и становится воплощением пошлости, так как видит в женщине, прежде всего, плотское начало». Наблюдение о трех проявлениях любви повторяется в несколько иной форме и в связи с интересными соображениями об общей значимости для гумилевского рассказа числа «три»: «В трех новеллах автор рассказывает о трех проявлениях любви (возвышенной неземной, возвышенной земной и приземленной земной); трижды встречаются в повествовании Кавальканти и Примавера, о трех историях любви, участники которых — трое мужчин и три женщины: Данте и Беатриче, Кавальканти и Примавера, Гумилев и Горенко, — узнаем мы. Все мужчины — поэты, однако не на этом автор акцентирует внимание читателя: важно, что они любят. Великая любовь дарует бессмертие им и их возлюбленным. И, наконец, в рассказе возникает (имеется в виду финальная сцена третьей новеллы — Ред.) и переосмысливается библейский символ Св. Троицы: Бог Отец, Бог Сын и... Святой Дух — Беатриче, святой дух любви» (Грачева I. С. 140–146).
О. Обухова рассматривала «Радости земной любви», совместно с другими рассказами Гумилева, с точки зрения структуральной поэтики: в контексте трехчастного инициационного мифа, который, по ее мнению, определяет собой всю идейно-образную систему раннего творчества писателя. В этом рассказе, как она указывает, последовательно реализованы все три этапа постулируемого ею мифического инварианта: «выделение индивидуума из общества» (в данном случае, «поэт затворяется от