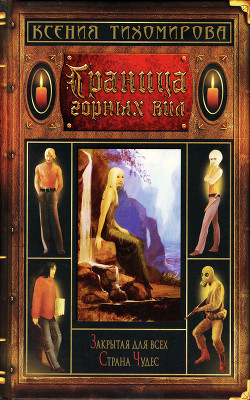Ксения Тихомирова
ГРАНИЦА ГОРНЫХ ВИЛ
В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.
О. Мандельштам
История первая
ИВАНУШКА
Глава 1 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Эта история впервые заглянула ко мне мимоходом, как Снежная королева в окно Кая, когда я был аспирантом-первогодком мехмата МГУ.
Стояла зима. Мы жили вдвоем с бабушкой в старом доме между Страстным бульваром и Петровкой. Бабушка большую часть дня просиживала в кресле: читала, вязала, смотрела телевизор. И в тот вечер она собиралась посмотреть какие-то международные юношеские соревнования по фигурному катанию.
Как сейчас вижу низкий оранжевый абажур над столом, клетчатую скатерть, накрытый ужин, темень в углах и яркий экран напротив бабушки. Все тихо и спокойно. Я думал о своем и комментатора не слушал, пока бабушка не спросила с возмущением:
— Ты слышишь, что он говорит?
— Нет, а что?
— Разве есть такая страна — Иллирия?
— Понятия не имею. Вряд ли. Разве что у Шекспира.
— Он говорит, что в этой Иллирии устроен детский дом или школа для украденных детей.
— Каких детей?
— Украденных. Смотри, они сейчас будут выступать.
Я посмотрел и впрямь увидел на экране угловатую электронную надпись: «Санни Клемент, Андре Илер. Иллирия» — и выезжающих подростков.
Два встрепанных весенних воробья. Девочка как былинка и парнишка ей под стать. Одного роста, одинаково одеты: в брюках и свободных рубашках. Только у Санни светлая головка и коса, уложенная на затылке, а у Андре темные волосы почти до плеч и темные глаза.
— Это неправильно, — сказала бабушка. — Нельзя такому маленькому кататься в паре. Он надорвется!
Какое там! Их будто ветром понесло с первым движением. Хрупкая угловатость превратилась в невесомость, скольжение — в полет без видимых усилий.
По стилю это был, пожалуй, контрданс. Шальная скорость не мешала им держаться церемонно, встречаться кончиками пальцев.
— Как на пуантах, — заключила бабушка.
Потом ладони вдруг смыкались в крепкий замок, и следовал страшный, неисполнимый трюк, который только чудом не кончался переломанными шеями.
Все замолчали, даже комментатор. Ждали, когда все это оборвется катастрофой. Один цветочный, праздничный Чайковский твердил, что детям, как и феям, дано летать.
Мне кажется, я знал, что они не сорвутся. И даже догадался, что им вроде бы не до того — не до катания, не до стадиона. И, может быть, отметил для себя оттенок профессионального автоматизма в этих трюках. Они не думали о технике, не рисковали, не боялись — они это умели.
Музыка кончилась, пальцы встретились, ладони крепко сжались. Поклоны, реверансы, никакой одышки. Публика перевела дух и благодарно грянула овацию. Судьи довольно долго совещались и отказались выставлять оценки. Программу признали не соответствующей правилам.
Теперь я был уже вполне готов послушать комментатора, но тот мало что знал и здорово растерялся. Из его лепета я понял, что выступать должна была другая пара, но кто-то там получил травму, а эти — запасные, не успевшие как следует отрепетировать программу.
— Оно и видно: слишком хорошо катаются, — съехидничала бабушка и попала в точку. Никто толком не обратил внимания на их разминку, не знал, чего тут можно ждать.
Пока судьи решали, как им быть, ребят показывали крупным планом. Тренера рядом не оказалось, цветов им тоже не принесли.
Память устроена коварно. Теперь я уже не могу ясно представить их пятнадцатилетними. Осталось лишь воспоминание о впечатлении. Мне кажется, что и тогда в Андре в первую очередь бросалась в глаза его свободная учтивость. Она, наверно, должна была бы скрыть дерзость и озорство — но не скрывала. Узкое, широколобое лицо, насмешливые быстрые глаза, пленительная улыбка, от которой бабушка растаяла и стала объяснять, что обаяние — дороже красоты.
Девочка больше всего впечатляла отсутствием вульгарности. Она не пыталась казаться взрослой, смотрела прямо и светло и вся сияла едва сдерживаемым ликованием. Чистое, тонкое, сероглазое лицо, правильный профиль, длинные ресницы.
— Ах, какая девочка, — сказала бабушка, — ее надо нарисовать, и лучше акварелью.
Я не стал спорить, но подумал, что у девочки совсем неакварельное выражение лица. Если назвать его одним словом, я бы сказал, что это смелость. Прямая и отчаянная, как у д’Артаньяна. Она отлично дополняла насмешливую дерзость темноглазого мальчишки. Даже непонятно, кто у них лидер. Ну и парочка, подумал я тогда, каково взрослым с ними ладить?
Мы видели короткую программу. На другой день бабушка все ждала, что судьи передумают, дадут ребятам хоть какое-нибудь место, и они выступят еще раз, в длинной произвольной. Я понимал, что судьи не передумают, но все равно пришел домой пораньше и честно отсидел у телевизора всю длинную программу, глядя то в книгу, то на экран в надежде на нечаянное чудо. Весь вечер рослые крепкие ребята крутили и кидали пигалиц, и на них так явственно давило земное притяжение, что было тяжело смотреть.
— Ну и хорошо, что они не катались, — вздохнула бабушка, — а то вдруг бы разбились насмерть.
Я опять не стал спорить, хотя про себя подумал, что без публики они наверняка и не такое вытворяют, причем, похоже, каждый день. Иначе не были бы в такой отличной форме.
Меня сильно задело это странное катание. Я даже купил спортивные газеты в надежде, что там будут комментарии или — что оказалось бы еще приятней — фотография ребят. Но газета поместила снимок победителей на пьедестале и о ребятах — ни гу-гу. Исчезли, будто их и не было.
А между прочим, если бы я не сидел сиднем у телевизора, мы могли бы встретиться с ними где-нибудь на улице, под легким декабрьским снежком. И это самое, на мой взгляд, невероятное в истории о фигурном катании.
Бет, лично вывозившая ребят на этот раут, подарила им свободный вечер в Москве. Сначала они оказались на пруду у Новодевичьего монастыря. Там стоял детский гвалт и шло разнообразное катание: на санках, лыжах, кубарем и так далее.
У наших ребят не было лыж и санок, коньки они тоже с собой не захватили. Они съезжали по раскатанной ледянке от стен монастыря на пруд (так сказать, показательные выступления), потом катали восхищенных малышей, учили их не падать. Смеялись, с кем-то перебросились снежками, потом чуть не ввязались в драку, когда шпана постарше с криками налетела на их ледянку.
— Они хотели показать, что тоже могут этак — с разбегу на ногах, но у них плохо получалось, — сказал Андре, припоминая тот вечер. — Одному верзиле удалось не шлепнуться, и он вздумал пристать к Саньке, раз уж такой герой. Полез со мной драться.
Я посочувствовал верзиле:
— Ох, зря! С тобой неинтересно драться.
— Ну, это как сказать. Лучше со мной, чем с Санькой. У меня рука легче.
— А ты с ней дрался?
— Правильней спросить, дралась ли она со мной. Хотя, сколько себя помню, — нет, не было такого. А раньше — кто нас знает. Вряд ли… Мы всегда хорошо ладили. Но это же и так ясно, что с Санькой лучше не связываться. А с той шпаной я тоже не стал драться: столкнул всех вниз, и мы удрали. Бет нас предупредила, чтобы мы не смели ни во что ввязываться.
Впрыгнув в отъезжавший троллейбус, они оторвались от погони и скоро оказались в центре. Потом бродили там бульварами и переулками. Если бы я вышел прогуляться за хлебом в Филипповскую булочную (бабушка любила хлеб оттуда, хотя какая разница?), я мог бы застать их греющимися в кафетерии. Решись я подойти (подростки ведь, чего стесняться?), они бы со мной поболтали, делясь своею радостью.