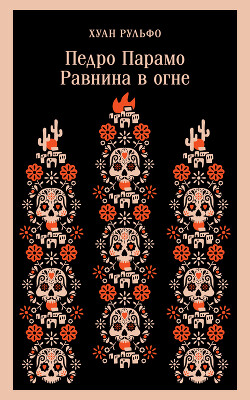Чудно, знаешь ли, они там наверху выражаются, хотя понять можно. Я уж приготовилась ответить, что это желудок мой усох от голода и лишений. Но тут другой угодник схватил меня за плечи и к выходу подталкивает: «Ступай, дочь моя, погуляй еще по земле, да постарайся не грешить – из чистилища до срока выйдешь».
Вот такая «горькая» фантазия. Стало мне ясно, что никакого сына-то и не было. Только поняла я это слишком поздно, когда спина согнулась в три погибели, голова в плечи ушла, а ноги уже не носили. В довершение ко всему городок наш пустеть начал; народ подался в другие края, и жить мне без милостыни стало не на что. Поэтому села я ждать смерти. А как мы тебя нашли, так мои кости наконец успокоились. «Никого там не потревожу. Небось и не заметят», – подумала я. Сам видишь, даже землицы на меня не потратили: похоронили нас в одной могиле, и так славно я промеж твоих рук уместилась. Прямо здесь, в уголке. Только, пожалуй, это мне следовало тебя обнять. Никак дождь наверху пошел? Слышишь, барабанит?
– Такое чувство, будто над нами ходит кто-то.
– Не пугайся. Теперь тебе некого бояться. Лучше подумай о приятном, а то долго нам еще здесь лежать.
Рано утром на поля тяжело упали первые капли, гулко впечатываясь в мягкие рыхлые борозды пашен. Над самой землей пролетел пересмешник и зарыдал, подражая детскому плачу; немного погодя донесся его изможденный стон, а затем вдалеке, там, где горизонт уже начал светлеть, раздались гиканье, взрыв смеха и очередное стенание.
Вдыхая землистый запах, Фульгор Седано вышел посмотреть, как борозды принимают в себя живительную влагу. Маленькие глазки радостно сверкнули. Он трижды глотнул насыщенный ароматами воздух и осклабился.
– Эге! Никак еще один хороший год будет. – И добавил: – Лейся, водичка, лейся. Падай, пока не устанешь! А потом в ту сторону беги, не забудь; вон какую прорву земли мы вспахали, только чтоб тебе угодить, – усмехнулся он.
Облетевший поля пересмешник вернулся и с надрывным стоном порхнул почти перед самым носом Фульгора.
Дождь зарядил сильнее; даже там, где уже начало светать, небо вновь заволокло, и ночной мрак, растаявший было, сгустился вновь.
Большие разбухшие от влаги ворота Медиа-Луны со скрипом отворились. Из них выехали первые два всадника, затем еще двое, за ними следующие, и так – пока двести человек на лошадях не высыпали на раскисшие поля.
– Стадо из Энмедио надо отогнать подальше, за прежние земли Эстагуа, а скотину из Эстагуа гоните на холмы Вильмайо, – наказывал Фульгор Седано отъезжающим. – И не мешкайте, на нас надвигается потоп!
Он столько раз повторил эти слова, что под конец ограничивался лишь кратким: «Отсюда туда, а оттуда еще дальше».
Тем не менее все как один подносили руку к полям шляп, давая понять, что вняли приказу.
Едва отъехал последний всадник, в ворота на полном скаку влетел Мигель Парамо и, не сбавляя хода, спешился почти перед самым носом Фульгора, а коня бросил – сам найдет стойло.
– Откуда в такой час, парень?
– Подоить кое-кого ездил.
– Кого?
– А сам не догадываешься?
– Не иначе как Доротею Хромоножку. Только ей сосунки нравятся.
– Ты идиот, Фульгор. Впрочем, не твоя вина.
И, не снимая шпор, он скрылся в доме – завтракать.
В кухне Дамиана Сиснерос задала ему тот же вопрос:
– Где был, Мигель?
– Да тут, недалеко. По бабам шлялся.
– Не сердись, я ведь не со зла. Забудь. Яичницу приготовить?
– Дело твое.
– Я же к тебе по-хорошему, Мигель.
– Ладно, Дамиана. Не принимай близко к сердцу. Скажи-ка лучше, знаешь ли ты Доротею по прозвищу Хромоножка?
– Знаю. Если хочешь ее увидеть, так она во дворе. Всегда спозаранку является, к завтраку. И узелок с собой таскает, в шаль завернутый, баюкает его, точно ребенка. Верно, беда какая с ней приключилась в прошлом, а что именно – никому не известно: молчит она всю дорогу. А живет подаянием.
– Чертов старик! Ну ладно, я тоже с ним шутку сыграю – еще увидит небо в алмазах.
И Мигель призадумался, нельзя ли с выгодой использовать эту женщину. Затем решительно прошагал через кухню к задней двери и позвал Доротею:
– Подойди-ка, дело у меня к тебе есть.
Неизвестно, о каком деле шла речь, однако вернулся Мигель довольный, потирая руки.
– Давай сюда яичницу! – крикнул он Дамиане и прибавил: – Отныне и впредь будешь кормить ее тем же, чем и меня, хоть в лепешку расшибись.
Тем временем Фульгор Седано обходил закрома, проверяя, много ли осталось маиса, который стремительно убывал. Это его беспокоило, ведь до нового урожая еще далеко. Чего уж там: посевная едва закончилась. «Только бы хватило, – думал он. А затем: – Еще мальчишка этот! Молодой да ранний, весь в отца. Такими темпами долго не протянет. Ах да, забыл ему передать, что приходили вчера по его душу, в убийстве обвиняли. Если так продолжится…»
Фульгор вздохнул и попробовал представить, где сейчас погонщики. Однако его отвлек рыжий жеребец Мигеля, чесавший морду о каменную ограду. «Даже не расседлал. Так и бросит. Дон Педро, по крайней мере, в состоянии свой буйный нрав обуздать. А вот Мигелю многое спускает. Вчера рассказываю, что его сынок учудил, а он в ответ: “Считай, моих это рук дело, Фульгор. Не по силам ему человека убить! Для этого нужен вот такой внутренний стержень”. И руки развел в качестве демонстрации. “Во всем, что он делает, вини одного меня”».
– Немало Мигель вам огорчений доставит, дон Педро. Первый в драку лезет.
– Пускай. Он еще ребенок. Сколько ему? Семнадцать, а, Фульгор?
– Вроде бы. Кажется, не далее как вчера его, новорожденного, принесли… Но больно уж задирист и жить торопится – будто время хочет обогнать. И в конце концов останется с носом, помяните мое слово.
– Мал он еще, Фульгор.
– Воля ваша, дон Педро. Только женщина, которая давеча тут слезы лила, обвиняя Мигеля в убийстве ее мужа, была безутешна. Уж мне-то известна вся мера отчаяния, дон Педро. И этой бабенке досталось с лихвой. Я предложил пятьдесят гектолитров маиса, чтобы замять дело, – она отказалась. Тогда пообещал возместить ущерб иным образом. Ни в какую.
– Кто ее муж?
– Никогда о нем не слышал.
– Так и не мучайся угрызениями, Фульгор. Считай, что его не было.
От хранящегося в закромах маиса исходило тепло. Набрав пригоршню, Фульгор проглядел, нет ли в зерне долгоносика. Затем прикинул запасы и решил: «Хватит. Скоро трава подрастет, не придется скотине маис давать. Еще и останется».
На обратном пути он глянул на затянутое тучами небо. «В воде тоже недостатка не будет». Ничто больше его не заботило.
– Должно быть, там снаружи погода теперь изменилась. Мать рассказывала, что во время дождя все здесь так и сверкает, а воздух полнится благоуханием молодой зелени. Говорила: нахлынут волной облака, обрушатся на землю и расцветят ее другими красками… Маме, прожившей в этом городке все детство и лучшие годы, не довелось тут упокоиться. Вот, меня взамен отправила. А я даже неба толком не увидел, Доротея. Забавно, правда? Уж оно-то, по крайней мере, такое, как было при ней.
– Не знаю, Хуан Пресиадо. Я столько лет не поднимала головы, что позабыла о небе. А хоть бы и подняла, какая с того польза? Небо высоко, а зрение у меня все равно плохое; я уже тому радовалась, что землю вижу. Да и утратила я к нему всякий интерес с тех пор, как падре Рентериа заявил, что не видать мне Божьей благодати. Даже издали… Знаю, много на мне грехов. Только не стоило ему такое говорить. Жизнь и без того сплошная мука. Одной надеждой спасаешься, что после смерти отправят тебя отсюда в лучший мир; а когда захлопнут вот так перед носом дверь, а единственная открытая – в ад ведет, то и вовсе не рождаться бы… Так что, Хуан Пресиадо, мне и здесь не хуже, чем на небесах.
– А душа? Куда, по-твоему, она делась?
– Наверное, по земле бродит вместе с другими да среди живых ищет, кто бы за нее помолился. Может, ненавидит меня за свою участь горькую. Невелика беда! Совсем измучилась я из-за нее угрызениями. И кусок-то в горло не лез, и ночи не спала: всё думы тревожные докучали – о грешниках в аду и тому подобном. А когда села я ждать смерти, принялась душа умолять, чтобы я встала и дальше влачила свою жизнь, будто на чудо какое уповала, которое смоет мои грехи. Я даже не шелохнулась: «Здесь, – говорю, – мой путь окончен. Нет у меня больше сил». И рот открыла: пускай отлетает. Она и отлетела. Мне в ладони только ниточка крови упала, которая ее с сердцем связывала.