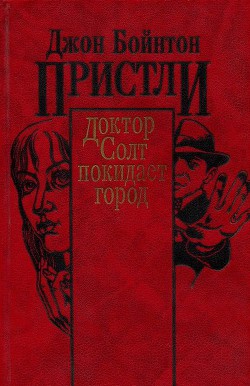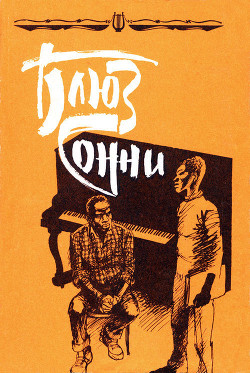— Я имел удовольствие слышать прелестную речь мисс Фрэзер, — сказал он после обычных реверансов в сторону мэра и именитых граждан города. — И, мне кажется, едва ли должен извиняться за свое опоздание. Мисс Фрэзер ответила от имени всех нас гораздо лучше, чем это смог бы сделать я. — “Пока неплохо; а теперь сотрем с их лиц этот слегка остекленевший взгляд”. — Но я не могу согласиться с тем, что она говорила о Театре. У меня появились серьезные сомнения в том, что Театр способен обрести новую жизнь и былое очарование. “Стеклянная дверь”, премьеру которой мы здесь покажем, — это последняя из написанных мною пьес и, вполне возможно, последняя моя пьеса вообще.
Это вызвало шум — кое-где удавленное и испуганное перешептывание, а кое-где просто шум. Ни то, ни другое гроша ломаного не стоит. Но он успел заметить, что Паулина нахмурила брови. Бедняжка Паулина!
— И может быть, мне следует предупредить вас, — продолжал он, надеясь, что говорит как нельзя более непринужденно, — после всех этих разговоров о сердечной теплоте и готовности хорошо посмеяться предупредить, что “Стеклянная дверь” — это серьезная попытка рассказать о мире, каков он есть, и о людях, каковы они на самом деле, вследствие чего она может показаться вам мрачной и довольно неприятной пьесой — совсем не такой, как вы ожидали. На этот случай я заранее прошу вас принять мои сожаления. — Он старательно улыбнулся им, но вместо улыбки получилась натянутая, сухая, словно пергаментная, усмешка. — И позвольте заверить вас, господин мэр, — заключил он с фальшивой мягкостью и теплотой, — что мы высоко ценим ваш прекрасный старый театр и дружеское гостеприимство, с которым вы нас приняли. Благодарю вас.
На этом после нескольких неуверенных хлопков прием и закончился. Официанты начали убирать со столов; горожане потекли к одному выходу, актеры — к другому; Отли представил Чиверела мэру, который оказался не усатым торговцем скобяным товаром, а гладко выбритым галантерейщиком. Чувствуя, что он просто обязан это сделать, Чиверел проводил Отли, мэра и его охрану и свиту до конца коридора, который вел к главному входу. Это была нелегкая работа, настоящая епитимья, потому что Чиверел отчаянно устал и мечтал поскорее сесть. “Боже, — мысленно взмолился он, — пошли мне глубокое кресло и никаких людей”. Тем временем откуда-то вынырнула женщина с попугаичьим лицом из числа тех поклонниц, которые превращают жизнь знаменитости в пытку. Она сказала Чиверелу, что его пьесы всегда были счастьем ее жизни; однако, неся эту мерзкую чепуху, она не переставала подозрительно буравить его маленькими глазками, точно озлобленный неудачами сыщик.
— Вы знаете эту женщину? — спросил он Отли, когда они наконец отделались от нее.
— Нет, мистер Чиверел, хотя я тут знаю чуть не каждого.
— Ничего удивительного. С некоторых пор мне кажется, что они и не люди вовсе. — Он печально посмотрел на коротышку Отли. — Я думаю, это исчадия ада, — прошептал он и побрел обратно в Зеленую Комнату.
2
Официанты — из театрального буфета и приглашенные — сделали свое дело быстро и аккуратно. Никаких следов только что закончившегося приема уже не было видно. Зеленая Комната стала почти прежней, мрачноватой, но изысканной Зеленой Комнатой. В ней тесной кучкой стояли три человека — три его ведущих актера: Паулина Фрэзер, высокий Джимми Уайтфут, похожий на гвардейского офицера, которым он и вправду когда-то был, и старый Альфред Лезерс, семидесяти с лишним лет, грузный, совершенно седой и имевший потрепанный и смешной вид, какой бывает у боксеров, ушедших на покой, и у старых характерных актеров. Едва Чиверел вошел, они как-то сразу отодвинулись друг от друга, не сделав при этом ни одного сколько-нибудь заметного движения. Чиверел понял, что против него готовится заговор.
Лезерс ухмыльнулся.
— Ну как ты расстался с его милостью мэром?
— Он считает, что я скромничаю, — беспечно ответил Чиверел. — Мне так и не удалось втолковать ему, что я говорил о пьесе вполне искренне.
— Ну, я надеюсь, ты не слишком усердствовал.
— Нет, — сказал Чиверел. — Мне надо сесть. — И он тяжело опустился в кресло. — Если хотите начинать первый акт, давайте. Я спущусь попозже. Ко мне тут должен прийти врач.
— Мартин! — Паулина сразу же встревожилась.
— Да нет, все в порядке. Ничего страшного. Старая история. Упало давление. Поэтому я и явился на этот проклятый прием к шапочному разбору.
Паулина не успокоилась.
— А у врача ты был?
— Да. Он как будто человек толковый. Обещал принести какое-то зелье, которое должно мне помочь. И я буду в полном порядке. — Он взглянул на них с насмешливой улыбкой. — Вас можно принять за депутацию.
— Ну что ж, дружище, пожалуй, можно считать и так, — примирительно сказал Лезерс.
— Тогда выкладывай. — О боже! Он любил их всех троих. Паулина и славный старина Альфред были его давними друзьями, но сейчас он хотел бы, чтобы их унесло за тысячу миль, на какой-нибудь тихоокеанский остров. Или нет, пусть остаются здесь, а остров он взял бы себе. Он зажмурился, чтобы полюбоваться игрой воды в лагуне, потом широко открыл глаза.
— Третий акт?
Лезерс взглянул на двух остальных.
— Видите, он знает.
— Да, Мартин, — серьезно сказала Паулина. — Третий акт.
Теперь слово взял Джимми Уайтфут.
— Мы все почувствовали это несколько дней назад. Но притворялись даже друг перед другом, что ничего страшного не происходит.
— А после сегодняшней утренней репетиции мы не можем больше так продолжать. — Паулина бросила на него безнадежный, но пылающий взгляд и с силой закончила: — Мартин, мы все ненавидим этот третий акт.
— Это верно, дружище, — печально сказал Лезерс.
— Не поздновато ли вы это заметили? — сухо, но беззлобно спросил Чиверел. — В понедельник у нас премьера.
Паулина отмахнулась.
— Да, но поскольку это ты… и потом, нам ведь и раньше случалось вносить изменения в последнюю минуту… так что еще время есть… — Она не договорила.
— Время для чего? — спросил он мягко.
— Для того, чтобы написать и отрепетировать другой финал — не такой циничный и горький и… и не такой безнадежный. Альфред, Джимми, ну скажите же ему… — И она отвернулась, явно расстроенная.
— Она совершенно права, дружище, — сказал Лезерс необычайно торжественно. — Мое мнение — а уж мне-то полагается все знать, ведь я пятьдесят лет варюсь в этом котле, — мое мнение, что у них такой финал никогда не пройдет. Им это вообще не по зубам. А если ты стоишь на своем, тогда мы здесь провалимся.
Чиверел воспринял это легко — он слишком устал, чтобы противостоять такому серьезному напору. Как все актеры вне сцены, они говорили с чрезмерной аффектацией, словно играли для верхнего яруса и галереи.
— Может быть, ты и прав, Альфред. Но меня это не очень волнует. И в конце концов пусть будет великолепный провал, который никому из вас не причинит большого огорчения.
— Постой, Мартин, — сказал дотошный Уайтфут. — Мы с Паулиной вовсе так не считаем. Мы думаем, что даже если пьеса пойдет, она не принесет людям добра. Люди пережили тяжелые времена, и они не хотят больше испытывать боли… и мы чувствуем то же самое…
— А то, что твои персонажи говорят и делают, — неправда, — осуждающе перебила Паулина. — Я просто не верю им… Все это ложь.
— Одну минуту, Паулина, — сказал он спокойно. — Ты вместе с остальными читала пьесу. Мы обсуждали ее.
— Да, но тогда мы не понимали, каким безысходным и безнадежным будет третий акт. — Она решительно стояла на своем. — Ты-то, конечно, знал это. Но мы не знали. В конце пьесы между людьми не остается ни проблеска взаимопонимания… Каждый бормочет что-то, будто запертый в стеклянном шкафу…
— Кстати, пьеса и называется “Стеклянная дверь”, — напомнил он.
— С таким же успехом ее можно было назвать “Стеклянный гроб”! — выкрикнула взбешенная Паулина.
За этой репликой, которую бродвейский режиссер оценил бы как самую кассовую в спектакле, последовала пауза — пауза, определенно неловкая. Лезерс и Уайтфут переглянулись. Паулина, отнюдь не плакса, по-видимому, готова была разрыдаться; но она пересилила себя и сказала двум актерам: