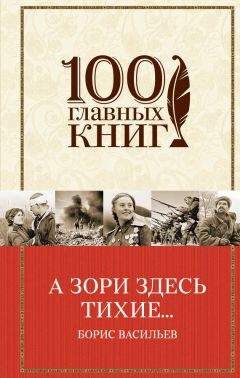Ознакомительная версия.
Очередная перекройка почти готовой книжки была наиболее быстрой и беспощадной: Антонина Федоровна решительно выбрасывала примеры хрестоматийного, набившего оскомину героизма. Вместо отвлеченного читателя она старалась все время представить себе такие знакомые, такие привычные юные лица, она стремилась заинтересовать их, заставить поверить не в подвиг как таковой, а в его значимость, в ту затрату сил, которых требовал каждый час обыденной каждодневной окопной жизни…
«…На другое утро после той перестрелки, в которой тяжело ранили командира роты, случилось затишье, и комбат повел меня представляться командиру полка подполковнику Зотову Илье Харитоновичу.
– Лейтенант Иваньшина зарекомендовала себя толковым взводным, товарищ подполковник. Думаю, что командиром роты будет геройским.
Илья Харитонович был, по тогдашним моим представлениям, весьма даже стар, и я очень его боялась. И так тянулась, что стала вся красная. А он взял да и по щеке меня погладил. И сказал то, что я на всю жизнь запомнила:
– Знаешь, в чем командирский героизм, лейтенант? Первое: чтоб твой боец хотя бы разочек в сутки горячего похлебал – пусть из расчета котелок на двоих. Второе: чтоб твой боец хотя бы четыре часика в сутки лежа поспал – пусть в шинели и с винтовкой в обнимку. И третье, чтоб он, боец твой, всегда верил, что за спиной его – полный порядок: мать здорова, дети сыты и жена с другим не спит. А для этого надо о каждом бойце все знать. Кто он, откуда, чего ждет и о чем думает. Если все соблюдешь – при всех героем назову…»
Этот отрывок она вписала вместо пространного рассказа о том, как лично провожала полковых разведчиков через ей одной известную лощинку, как сутки пролежала в сугробе в пяти шагах от немецких окопов, пока разведка не вернулась. На рассвете лощинку надежно скрывали тени, утренники стояли солнечные и морозные, и про то, на сколько минут немцы теряют ту лощинку из виду, во всем полку знала только она, командир взвода, по часам изучавшая движение всех теней в секторе своего наблюдения. За безопасный маршрут, за ожидание своих у немцев под носом и короткий бой при отходе, когда все же потревожили противника, ее наградили солдатской медалью «За отвагу», и по этой причине Иваньшина заменила отрывок разговором с командиром полка. Из двух принципиально различных точек зрения – «Героизм есть исключительность» и «Героизм есть повседневность» – Антонина Федоровна ныне решительно выбирала вторую.
Этот вариант отвозил в издательство Олег. Рыженькая редакторша там уже не работала, и к Антонине Федоровне вскоре явилась ощутимо траченная временем ученая дама. Смачно бросила на стол рукопись и бережно – редакторскую папочку с аккуратно приклеенной бумажкой: «ИВАНЬШИНА А. Ф. «ФРОНТОВЫЕ ДНИ И НОЧИ». Творческая заявка».
– Что же это вы с нами делаете, Антонина Федоровна?
Вопрос звучал риторически, но тон его был полон непонятной обиды. Иваньшина молча ждала разъяснений. Посетительница – то ли редактор, то ли литконсультант – развязала папку, извлекла листочек.
– Мы заключали договор на ваши воспоминания о войне под условным названием «Фронтовые дни и ночи». Заявка содержит обещание поделиться с нашей молодежью уникальностью вашего опыта, а что мы получили в рукописи? Ваша фронтовая жизнь и деятельность показаны в следующем ракурсе. – Дама нацепила очки, бойко зашелестела раздраженно исчерканными карандашом страницами. – Вот, пожалуйста, аборт. Убит любимый Вася. От страха при атаке ваша героиня – то есть вы, извините, мочитесь прямо в юбке. И ни одного военного эпизода, характеризующего командира… э-э… взвода, кажется?.. как действительно героическую личность. Так в чем же заключается уникальность опыта, что мы поведаем молодежи?
– Правду.
– Какую правду, какую? О том, как писают от страха? Кому это надо? Нет уж, пожалуйста, приведите нам хотя бы один положительный пример, который бы… который… который…
Нет, Антонина Федоровна не оглохла: шум в ушах вдруг все заглушил. И перехватило дыхание: не в спину ударило, как обычно, а впервые стиснуло грудь, тупой тяжелой болью отдалось в сердце, и воздух застрял в горле, не желая лезть внутрь, в легкие. «Это у вас они – легкие, – говорил старый военком, – а у меня – как свинцовый сурик». Вот и она узнала, что значит, когда легкие – «как свинцовый сурик»: широко разевала рот, закидывая голову, пыталась зевнуть, чтобы хоть зевком, силой чтоб протолкнуть глоток воздуха в судорожно зажатые легкие. «Героизм вам положительный? – отрывочно продолжала думать она. – А когда на тысячи солдат одна девчонка, это как, не героизм? А спать в землянке три на четыре среди двух десятков грязных, потных, усталых, вонючих, завшивевших с окопной тоски мужиков – тоже не героизм? А по нужде куда бежать, когда кругом – поле чистое, а до ближайшего сортира – полста верст?.. Эх вы, указчики, чистенькие да надушенные: вас бы туда часа бы на четыре – в то реальное, окопное, грязное, вонючее, пехотное, где вши и крысы, где трупы в трех шагах разлагаются, а рядом – ровики, полные дерьма, а воды – снегу котелок, а смену только через полмесяца обещали, да и то если маршевая рота подойдет, а бани нет и не будет, и неделями снегом умываешься – тоже не героизм?.. Эх вы, гладкие, не клевал вас петух…» Но она не смогла выдавить из себя ни единого слова и, разинув рот и серея на глазах у знатока героического, начала медленно рвать листы собственной рукописи…
– Что вы делаете? Что вы… Помогите же, помогите!
На счастье, дома оказалась Алка. Сунула Антонине Федоровне нитроглицерин, что купил предусмотрительный Олег, решительно выпроводила специалиста по героике и отобрала рукопись. Иваньшина вскоре отдышалась и отлежалась. Олег склеил разорванные страницы, отвез работу директору издательства, все объяснил, попросил прочитать лично. Замечания оказались мелкими и конкретными. Антонина Федоровна быстро с ними справилась, и рукопись ушла в набор. До мая оставались считаные месяцы, все стремились отрапортовать к празднику Победы, и уже в марте книжка Иваньшиной вышла из печати.
– Ну вот, тетя Тоня, а ты боялась.
– Так ведь чем старше, тем боязливее, – отшутилась счастливая Антонина Федоровна.
Вторая половина дома – та, жильцам которой Иваньшина отдала право первой очереди, – опустела как-то незаметно. Жильцы переезжали дружно, но тогда, когда Олег бывал на работе; однажды, возвращаясь домой уже в сумерках, он был неприятно поражен темными окнами соседей. И снова с горечью и почему-то даже с обидой («Тут носишься, устраиваешь, и все вдруг гибнет от бабских капризов…») вспомнил, как провалила Антонина Федоровна его план, всю тщательно подготовленную, оговоренную в горсовете операцию по вселению в практически уже готовый кирпичный дом на Гвардейской улице. Выселяемых из аварийного дома жильцов расселили по новым микрорайонам, но за отсутствием свободных квартир их половину дома пока оставили, и весь Олегов замысел на этом этапе рухнул окончательно. Оставалось одно: разрабатывать новый план, заручаться новой поддержкой. Все требовало времени, заветные площади вот-вот должны были занимать законные владельцы, и Олег с отчаянием чувствовал, как уходит из рук последний шанс.
На следующий день он возвращался с работы нормально, еще засветло, и ноги сами занесли его на опустевшую половину. Печальное зрелище поспешного отъезда встретило его там: комнаты завалены мусором, рухлядью, поломанными вещами, накопленным и ставшим вдруг ненужным барахлом; лампочки вывернуты, а кое-где и срезаны вместе с патронами, розетки частью вывернуты, частью разбиты, лишенные роликов провода, кое-где совершенно оголенные, свешивались со стен. Олег бродил из квартиры в квартиру, шурша обрывками газет, обоев, книг и журналов, думая о поразительной беспечности и безответственности съехавших: после нас – хоть пожар. В самом деле, опасность короткого замыкания, о которой предупреждал Олег домоуправление и пожарную охрану, лишь возросла с разъездом жильцов: любая случайность могла сблизить оголенные концы проводки, могла вызвать искру, и тогда весь этот сухой как порох хлам и сор затлели бы, задымили, разгорелись бы и… «Вот уж тогда нам всем сразу квартиру выделят, – с усмешкой подумал он. – Погорельцам в первую очередь, это – верняк, люди жалостливы…»
Конечно, следовало немедленно поставить в известность об этих оголенных проводах домоуправление, но Олег ничего делать не стал. Не то чтобы он непременно хотел пожара – он просто не хотел отказываться от такой возможности. Не его то была беспечность, не его ответственность, а судьба его и его близких могла решиться вдруг, как в сказке, огненным чудом могла решиться. «Надо побыстрее дачу снять, – подумалось ему. – Увезу всех, и пусть оно будет, как тому суждено. А если и вправду суждено, то с квартирой нам – верняк: героиню Великой Отечественной Антонину Иваньшину никто на улице не оставит, уж я по всем кабинетам побегаю. Тем более после того, как книжечка вам понравилась…» И, заметно повеселев после этого пожароопасного открытия, пошел домой. А во сне увидел пожар: Алка говорила, что очень радостно смеялся.
Ознакомительная версия.