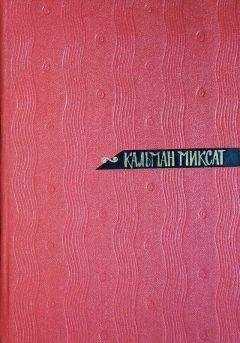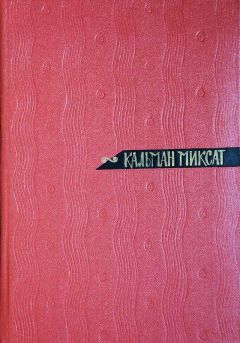В гостиной, неподалеку от двери, сидел Мухин и курил. Он проводил меня глазами и спокойно сказал: «Какой вы, однако, негодяй». Я холодно ему кивнул и вышел.
Вернувшись вниз к себе, я взял шляпу и поспешил на улицу. Зайдя в первый попавшийся цветочный магазин, я стал постукивать каблуком и громко посвистывать, так как в магазине никого не было. Прелестно и свежо пахло цветами, что почему-то усиливало мое нетерпение. В зеркальном стекле сбоку от выставки продолжалась улица, но это было продолжение мнимое: автомобиль, проехавший слева направо, вдруг исчезал, хотя улица невозмутимо его ждала, исчезал и другой, ехавший ему навстречу, – ибо один из них был только отражением. Наконец явилась продавщица. Я выбрал большой букет ландышей: с их тугих колокольчиков капала вода, у продавщицы безымянный палец был обмотан тряпочкой, вероятно, укололась. Она ушла за прилавок и долго возилась, шуршала бумагой. Связанные стебли образовали что-то толстое и твердое, я никогда не думал, что ландыши могут быть такие тяжелые. Взявшись за дверную скобку, я увидел, как сбоку в зеркале поспешило ко мне мое отражение, молодой человек в котелке, с букетом. Отражение со мною слилось, я вышел на улицу.
Торопился я чрезвычайно, семенил, семенил, в облачке ландышевой сырости, стараясь ни о чем не думать, стараясь верить в чудную врачующую силу той определенной точки, к которой я стремился. Это был единственный способ предотвратить несчастье: жизнь, тяжелая и жаркая, полная знакомого страданья, собиралась опять навалиться на меня, грубо опровергнуть мою призрачность. Страшно, когда явь вдруг оказывается сном, но гораздо страшнее, когда то, что принимал за сон, легкий и безответственный, начинает вдруг остывать явью. Надо было это пресечь, и я знал, как это сделать.
Дойдя до моей цели, я стал звонить, не переводя духа, звонил так, словно утолял нестерпимую жажду, долго, жадно, самозабвенно звонил. «Будет, будет, будет», – забормотала она, открывая мне дверь. Я переметнулся через порог и сразу сунул ей в руки купленный для нее букет. «Ах, – сказала она. – Как красиво!» – и, немного оторопев, уставилась на меня своими старыми, бледно-голубыми глазами. «Не благодарите меня, – крикнул я, стремительно подняв руку, – но вот что: позвольте мне взглянуть на мою бывшую комнату, умоляю вас». – «Комнату? – переспросила старушка. – Простите, она, к сожалению, не свободна. Но как красиво, как мило…» – «Вы не совсем меня поняли, – сказал я, дрожа от нетерпения. – Мне просто хочется взглянуть. Только это. Больше ничего. Вот я принес вам цветы. Я прошу вас. Ведь жилец, вероятно, на службе…»
Ловко ее миновав, я побежал по коридору, а она за мной. «Боже мой, комната сдана, – повторяла старушка. – Доктор Гибель съезжать не собирается. Я не могу вам ее сдать».
Я рванул дверь. Расположение мебели было несколько изменено; другой кувшин стоял на умывальнике; а за ним в стене я нашел тщательно замазанную дырку, – да, я ее нашел и сразу успокоился, глядел, прижав руку к сердцу, на сокровенный знак моей пули: она доказывала мне, что я действительно умер, мир сразу приобретал опять успокоительную незначительность, я снова был силен, ничто не могло смутить меня, я готов был вызвать взмахом воображения самую страшную тень из моей прошлой жизни.
С достоинством поклонившись старушке, я вышел из этой комнаты, где некогда какой-то человек, согнувшись вдвое, отпустил смертельную пружину. Проходя через переднюю, я заметил на столе мой букет и, словно в рассеянии, на ходу прихватил его, подумав, что тупая старушка мало заслужила такой дорогой подарок и что можно иначе его применить, послать его, например, Ване с запиской, полной грустного юмора… Влажная свежесть цветов была мне приятна, тонкая бумага местами разошлась, и, сжимая пальцами холодное зеленое тело стеблей, я вспоминал журчание, сопроводившее меня в небытие. Я шел не спеша по самому краю панели и жмурился, представляя себе, что иду над бездной, и вдруг меня сзади окликнул голос:
«Господин Смуров», – сказал он громко, но неуверенно.
Я обернулся на звук моего имени, причем одной ногой невольно сошел на мостовую. Кашмарин, Матильдин муж, сдергивал желтую перчатку, страшно спеша мне протянуть руку. Он был без пресловутой трости и как-то изменился – пополнел, что ли, – выражение у него было смущенное, он показывал крупные, тусклые зубы, одновременно скалясь на строптивую перчатку и улыбаясь мне. Наконец ко мне хлынула его растопыренная рука. Я почувствовал странную слабость и умиление, даже защипало в глазах. «Смуров, – сказал он, – вы не можете представить себе, как я рад, что вас встретил. Я вас искал как безумный, никто не знал вашего адреса».
Тут я спохватился, что слишком любезно слушаю это привидение из моей прошлой жизни, и, решив немного его осадить, сказал: «Мне не о чем с вами говорить. Будьте еще благодарны, что я не подал на вас в суд». – «Смуров, – протянул он виновато, – я ведь прошу у вас прощения за мою подлую вспыльчивость. Я не находил себе места после нашего… крупного разговора. Я ужасался. Разрешите мне признаться вам как джентльмен джентльмену: я ведь потом узнал, что вы были не первым и не последним, и я развелся, да, я развелся».
«Между нами не может быть никаких разговоров», – сказал я – и понюхал мой толстый, холодный букет.
«Ах, не будьте так злопамятны, – воскликнул Кашмарин. – Ну, ладно, – ударьте меня, – двиньте хорошенько, а затем давайте мириться. Не хотите? Вот, вы улыбаетесь – это хорошо. Не прячьте лицо в ландыши, – вы улыбаетесь. Итак, мы теперь можем говорить как друзья. Разрешите мне вас спросить, сколько вы зарабатываете?»
Я еще немного пожался, но потом ответил. Мне все время приходилось сдерживать желание сказать этому человеку что-нибудь приятное, растроганное.
«Вот видите, – сказал Кашмарин. – Я вам устрою службу, на которой будете получать втрое больше. Заходите завтра утром ко мне, в отель „Монополь“. Я вас кое с кем познакомлю. Служба вольготная, не исключены поездки на Ривьеру, в Италию. Автомобильное дело. Зайдете?»
Он, как говорится, попал в точку. Вайншток и его книги давно мне приелись. Я опять стал нюхать холодные цветы, скрывая в них свое удовольствие и благодарность.
«Еще подумаю», – сказал я и чихнул. «На здоровье, – воскликнул Кашмарин. – Так не забудьте. Завтра. Как я рад, как я рад, что вас встретил».
Мы расстались. Я тихо побрел дальше, уткнувшись в свой букет.
Кашмарин унес с собою еще один образ Смурова. Не все ли равно какой? Ведь меня нет, – есть только тысячи зеркал, которые меня отражают. С каждым новым знакомством растет население призраков, похожих на меня. Они где-то живут, где-то множатся. Меня же нет. Но Смуров будет жить долго. Те двое мальчиков, моих воспитанников, состарятся, – и в них будет жить цепким паразитом какой-то мой образ. И настанет день, когда умрет последний человек, помнящий меня. Быть может, случайный рассказ обо мне, простой анекдот, где я фигурирую, перейдет от него к его сыну или внуку, – так что еще будет некоторое время мелькать мое имя, мой призрак. А потом конец.
И все же я счастлив. Да, я счастлив. Я клянусь, клянусь, что счастлив. Я понял, что единственное счастье в этом мире – это наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, – не делать никаких выводов, – просто глазеть. Клянусь, что это счастье. И пускай сам по себе я пошловат, подловат, пускай никто не знает, не ценит того замечательного, что есть во мне, – моей фантазии, моей эрудиции, моего литературного дара… Я счастлив тем, что могу глядеть на себя, ибо всякий человек занятен, – право же, занятен! Мир, как ни старайся, не может меня оскорбить, я неуязвим. И какое мне дело, что она выходит за другого? У меня с нею были по ночам душераздирающие свидания, и ее муж никогда не узнает этих моих снов о ней. Вот высшее достижение любви. Я счастлив, я счастлив, как мне еще доказать, как мне крикнуть, что я счастлив, – так, чтобы вы все наконец поверили, жестокие, самодовольные…
Предисловие автора к американскому изданию
<…>[1] Оригинал написан в 1930 году в Берлине, где мы с женой снимали две комнаты у одного немецкого семейства на тихой Луитпольдштрассе, а в конце того же года он был напечатан в эмигрантском журнале «Современныя записки», выходившем в Париже. Население этой книги – любимые персонажи моей литературной юности: русские изгнанники, обитающие в Берлине, Париже или Лондоне. Они, разумеется, вполне могли бы быть норвежцами в Неаполе или амбрасьянцами в Амбридже: меня никогда не занимали социальные вопросы; я просто пользовался материалом, который оказывался под рукой, подобно тому как разговорчивый собеседник за обедом в ресторане набрасывает карандашом на скатерти уличный перекресток или располагает крошку и две маслины в виде диаграммы между меню и солонкой. Забавно, что вследствие этого равнодушия к общественной жизни и к притязаниям истории круг людей, на котором художник безпечно задержал свой взгляд, приобретает характер ложной устойчивости и принимается и писателем-эмигрантом, и эмигрантами-читателями как нечто само собою разумеющееся в заданное время и в заданном месте. На смену Ивану Ивановичу и Льву Осиповичу 1930 года давно пришли нерусские читатели, и их смущает и раздражает то обстоятельство, что они должны вообразить себе общество, о котором не имеют ни малейшего понятия; ибо я не устану повторять, что губители свободы выдрали целые пуки страниц из прошлого, начиная с того времени, около полувека тому назад, когда советской пропаганде удалось обманом убедить общественное мнение за границей не замечать или принижать значение русской эмиграции (все еще ждущей своего летописца).