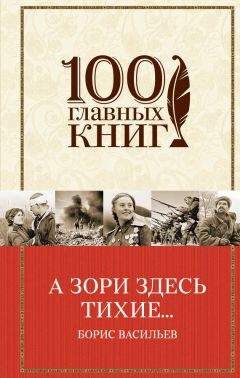Ознакомительная версия.
Шоферская маманя оказалась помладше старухи, и старуха ее не помнила. А маманя старуху помнила, и мужа ее помнила, и митинг тот, на котором беднота решила отселиться ради новой жизни, и сам исход их из села – с красным флагом, гармошкой да песнями: тогда она, сегодняшняя шоферская маманя и бабка двоим внукам, была девчонкой-подростком, все замечала, все видела и все уложила в памяти своей.
– Помнишь, твой-то сказал, что революция, мол, всех поменяла и теперь тот хозяин, кто вчера рабом был, а тот, кто был хозяин, тот сегодня раб? А я помню, все помню! И еще так: это рабы, говорил, ждут от жизни милостей, а мы хозяева, мы сами возьмем милости эти. Вот постановим, что через пять лет будет у нас счастливая жизнь, и выполним такое свое постановление.
Уласканная, согретая и обсушенная, старуха наслаждалась чаем и воспоминаниями о собственной молодости. Ее память, надорванная четырехкратными потерями в войну, многое уже утратила, многое в ней истерлось и померкло, а у хозяйки голова была ясной, вспоминала она с удивленным восторгом, и старуха испытывала теплую благодарность и радость на душе.
– И тебя помню, ой помню! Все бабоньки в красных платочках, а ты – в белом. Под красным флагом шла рядом с мужем, ребеночек на руках, и пела звончей всех, а платочек на тебе – белый.
– Белый, белый, точно ты говоришь, милая, – беззубо улыбалась старуха. – А знаешь, почему белый-то? А потому, что забежала я к отцу своему, к батюшке родному, благословения на уход получить, а он меня за волосья да по всей избе, да по всему двору! Уж не знамо как вырвалась простоволосая из родительского дома, а косынка красная да полкосы там и остались, в руках у батюшки. И больно мне, и совестно, и реву я, и задами к тетке своей, к Степаниде Мироновне: помнишь ее? В проулке за лабазом купца Дергунова жила, мужа у ей в Гражданскую убили? Вот она мне свой платочек-то и дала. Дранную батюшкой родным голову покрыть.
– Ай, помню Мироновну, помню! – обрадовалась хозяйка и даже руками всплеснула. – Она все песни знала, и голос у нее был звонок, и ее на все свадьбы приглашали. И на моей она тоже песни играла и глядела, чтоб все по закону было, как положено и по обычаю.
– Вот, вот, она самая, тетка моя, – бормотала старуха, улыбаясь и утирая обильные слезы. – Вот, вот, значит, белый платочек…
Обсушили, обогрели, чайком напоили, и старуха три часа тряслась в автобусе с улыбкой. Дождь моросил, грязь под колесами хлюпала, из ухабов фонтанами била до самых окон, небо серое и низкое, и ветер, и дорожка районная – только зубы поспевай считать, у кого они есть! – а старуха улыбалась до самой станции.
Правду сказать, так не дальний путь и не пересадки ее беспокоили. Для нее все было простым и естественным, и никакие сложности жизни, никакие трудности бытия и быта не могли ни испугать, ни насторожить, ни даже удивить ее. И боялась она не встречи с ними, с трудностями, а встречи с «самим». С мужем единственной дочери, с отцом единственного внука, с зятем Эдуардом Леонтьевичем, который с таким виртуозным мастерством, с таким восторженным наслаждением колол и разделывал свиней. И очень страшилась предстоящей встречи и особо – объяснений, как смела покинуть свиней, которых откармливала по лично составленному «самим» рациону и режиму.
– Наши хрюши на месяц раньше государственных созревают! – восторгался он, заедая водку жареной кровью. – Так держать, мамаша!..
Когда села в поезд, тревога достигла вершины. Старухе уже не сиделось и не дремалось: она ерзала на жесткой скамье, вздыхала, вставала, ходила, снова садилась, беспокоя попутчиков. Она терзалась и ехала, ехала и терзалась, до ужаса пугаясь предстоящей встречи с «самим». И чем ближе подъезжала она к городу, тем все нетерпимее становилась тревога и все большим – ужас. И, приехав, старуха два часа сидела на вокзале, чтобы уж наверняка «сам» оказался на работе.
– Ты что это, мам? Погорела или хрюшки заболели?
Светлана была стройной полноватой женщиной, ведущей тяжкую войну с весом, талией, бедрами и модой. Любила ходить в гости, принимать у себя, вкусно готовить и долго, уютно пить чай, а потом бегала в группе здоровья, маялась в сауне, страдала в руках массажистки, но непременно упаковывалась в тот размер, который считался оптимальным для ее возраста. Этой борьбой, по сути, и была заполнена вся ее жизнь, потому что должность методиста при Доме медработника являлась скорее престижной, учитывая свободный рабочий день, неясный круг обязанностей и маленькую зарплату. Кроме того, это был если не ход, то лаз к медицинским светилам, способ добывать дефицитные лекарства и путевки на вожделенное Черное море; правда, у мужа в этом смысле имелись более весомые возможности, но одно не только не исключало другое, но и создавало различные варианты: «Иван Петрович, дорогой, не желаешь ли с нами на солнечный юг косточки погреть?» А Иван Петрович – гастроном, ателье мод или станция техобслуживания. Все свершалось по законам круга, который они считали своим и который их считал своими: визиты, звонки, поздравления, шутки, подарки, одолжения, совместные поездки на курорт, на рыбалку, на дни рождений, на пикники с шашлыками и так далее и тому подобное…
– Свиньи заболели? Подохли? Пали? Ну, чего молчишь?
– Нет, Светочка, нет, слава богу, слава богу все.
Прочастила старуха, пролепетала и примолкла, потому что до сей поры, до свидания с дочерью, так и не подумала, что же сказать-то ей с порога, как объяснить необъяснимое: почему бросила свиней и вдруг, без разрешения, без предупреждения даже прикатила в город. «Здрасте!» Выкладывать сразу про икону, что казалось таким простым и естественным дома, здесь было явно не к месту.
– Измучилась я с головой, доченька, прямо спасу нет. Все кружится, все плывет, особо по утрам. Может, думаю, порошков мне каких?
– Из-за этого хозяйство бросать да ехать с пересадками? – недовольно проворчала дочь. – Могла бы и в письме описать свои кружения, а я бы выслала что требуется: мне же только по телефону позвонить, и всю аптеку на дом принесут. Ну да ладно, раз уж приехала. Поди в ванну залезь, погрейся, а потом чайку попьем, у меня тортик остался. Погоди, халат дам, полотенце. Спасибо скажи, отгул у меня сегодня, а то поторчала бы ты на лестнице!
Светлана была недовольна ее самовольством, но не до крика, и старуху это ободрило. На нее всегда все ворчали, и она уже свыклась с этим ворчаньем. Смиренное молчание ее действовало не то чтобы умиротворяюще, а, скорее, как прекращение подачи горючего: огонь угасал, и наступала тишина. И старуха тихо радовалась, что открыла такой простой и безотказный способ восстановления мира в собственном доме, способ, в основе которого лежало все то же терпение. И, приняв ванну с дороги, покойно сидела за кухонным столом, чинно и неспешно пила чай, пробовала торт и конфеты и слушала свою ненаглядную и последнюю, которая к тому времени уже отошла и от удивления, и от неудовольствия.
– Трудно стало жить, мама, ой как трудно, вы там, в деревне, и не представляете себе. У моего какие-то неприятности, начальника сменили, что ли: разве ж он скажет? Он все про себя переживает, ходит да молчит и даже телевизор не смотрит, а по ночам вздыхает и ворочается и меня отталкивает, представляешь? А уж это признак верный, что служебные у него неприятности. Да и у меня на работе строгостей навели – ну, будто у станка я, ей-богу! Представляешь, на минуту отлучиться нельзя: изволь расписываться в книге, во сколько явилась да на сколько отлучилась. А нервы мои, которые я на них потратила, так это никто не считает. Это так, в порядке вещей: Светочка, сделайте это, Светочка, сделайте то, Светочка, организуйте выставку, Светочка, проверните юбилей. И Светочка вертится, Светочка проворачивает, Светочка ночей не спит, а им, видите ли, жалко, что я на часок в магазин сбегаю. Вот жизнь проклятая, не то что у вас, в деревне…
Старуха не могла оценить всей горечи этих жалоб, слушала вполуха, но одно уловила, потому что царапнуло ее: «у вас, в деревне». «У нас, в деревне, – ей все время хотелось поправить, – у нас, Светочка, ты же деревенская, то же родина твоя, зачем же ты так-то, будто чужая ты нам?»
– Тебе учительница Мария Сергеевна кланяться велела, – невпопад сказала она.
– Ну и что ей надо?
– Ничего.
– А-а. Жива еще? Старая ведь, страх.
– Ну как? Маленько меня помлаже будет. Я уж бабой была, родила уж, а она еще только…
Светлана весело рассмеялась:
– Ты, что ли, молодая? И ты, как говорится, прогноз – склероз да на воз. Остроумно, правда? Это у нас знакомый один так говорит, невропатолог. Заметный медик, перспективный. Чаю еще налить? Ты торт бери, пока дают, в деревне такого ни за какие шиши не купишь. Чаек, между прочим, из настоящей индийской банки, мне по знакомству достали. Теперь ведь давно уже не покупают, теперь только достают, потому что то, что можно купить, то нельзя носить, а что хочется носить, то нужно доставать. Дефицит, слыхала Райкина? Ох и наживаются же на нем некоторые, ты, мама, и представить себе не можешь! Что там ваши деревенские лавочники да кулаки – мелочь пузатая, им такие доходы и не снились, как у наших у некоторых…
Ознакомительная версия.