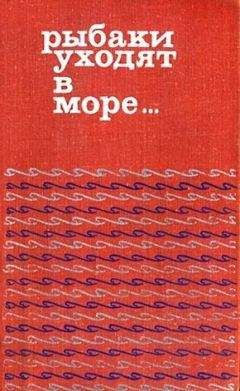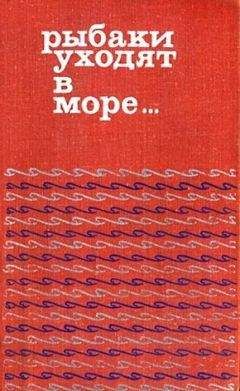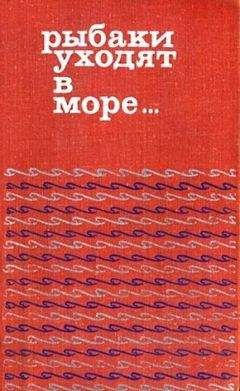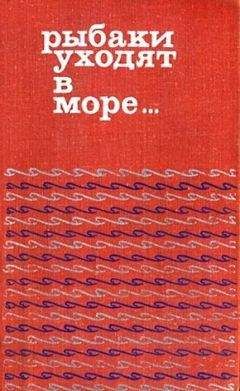Кто-то бежит вниз по лестнице, и они испуганно и несколько смущенно смотрят друг на друга. Портниха поправляет покрывало на диване.
— Открой скорей! — шепчет она.
Но это не Лина, это Ауса бежит взглянуть на своего спящего сына.
— Все-таки я лучше пойду, — говорит он и расправляет плечи, лоснящаяся гора жира, которая так грязно думает о ее девочке. Хоть бы он больше никогда не пришел к ней. Но она знает, что он придет. Придет, когда ему этого захочется. И она примет его. Это она тоже знает…
* * *
— Зачем ты позвонил мне? А что ты сказал бы, если бы к телефону подошел кто-нибудь другой?
— Сказал бы, что ошибся номером.
— Да… но… Ты не должен звонить мне. Я…
— Почему ты не пришла?
— Кое-что помешало. — Она медлит и не знает, как лучше отразить эту телефонную атаку. — Заболел мой свекор, ему очень плохо.
— Ну и что?
— Неужели ты не понимаешь, что я не могу разгуливать по городу, когда у нас такое несчастье?
— Как не понять! Подавленная горем семья дежурит у постели больного. Кажется, есть надежда, что у тебя скоро освободится комната?
— Господи, каким ты иногда можешь быть злым! — горячо восклицает она, забыв об осторожности.
— Правда? — спрашивает голос в трубке.
Свава молчит, кусает губы. Ей следовало бы повесить трубку. Если бы это был кто-нибудь другой… Но он… Если она сейчас повесит трубку, все будет кончено навсегда.
— Свава, ты действительно собиралась ко мне? — спрашивает голос в трубке уже другим тоном.
О, как хорошо она знает все оттенки этого голоса! Словно что-то ударяет ей в голову, прикасается к коже, сладкой истомой обвивает колени, и ей безумно хочется оттолкнуть последнюю опору и пасть. Но так не поступают и об этом даже не думают.
— Да, это было глупо, но… Хидди, мне так жалко.
— Жалко? И только? После всего, что было?
— Оставь эти глупости! — сухо говорит она в трубку. Она должна проявить твердость. Иначе он испортит ей всю жизнь. Она ему докажет, что она уже не ребенок. Почему они не могут быть друзьями, мало ли что было раньше?
— Это ты говоришь глупости, а не я. Помнишь, что ты сказала мне сегодня?
Хорошо, что он ее не видит: кровь бросилась ей в голову, лицо пылает, сердце вот-вот выскочит из груди.
— Нет, Хидди, честное слово! Просто у меня было такое настроение. Это бывает очень редко, даже странно. Должно быть, я зря выпила. Мне теперь так стыдно!
— Тебе и должно быть стыдно. Но не из-за тех слов. Свава, ты не была пьяной!
Она смеется, приблизительно так, как нужно, хоть и не совсем.
— Ну правда, честное слово! Господи, Хидди, неужели ты все принял всерьез? Ведь мы взрослые люди!
Он холодно смеется.
— Повтори это еще раз.
— Еще раз? Зачем?
— Ты очень смешно это сказала.
— Не вижу в этом ничего смешного. Я действительно так думаю.
— Но все-таки ты собиралась прийти ко мне! Почему?
— Я больше не хочу с тобой разговаривать, — обиженно говорит она.
— Но ведь мы взрослые люди! — передразнивает он ее.
Ей хочется швырнуть трубку, но не хочется расставаться с ним таким образом.
— Хидди, почему мы не можем быть друзьями?
— Какими друзьями?
— Обыкновенными. Добрыми друзьями, — говорит она мягко, она уже овладела своим голосом и знает, что он звучит очень приятно.
— Свава, неужели ты не понимаешь? Когда мы с тобой встретимся в следующий раз, я тебе все объясню, если ты сама не поймешь до того времени. Где я могу тебя увидеть? И когда? Завтра?
— Только не завтра. Я тебе потом скажу, если будешь пай-мальчиком. Разве ты не понимаешь, что мой свекор…
— Это меня не касается. По мне, так пусть все старики катятся к чертовой матери. Я думаю только о нас…
— Боже мой, но ведь надо считаться и с другими.
Он смеется. Смеется холодно и бесстыдно, как в прежние дни, когда они ссорились и он считал, что ее глупость уже перешла все границы. Ее сердце начинает бешено колотиться.
— Не понимаю, — говорит он возмущенно. — Не понимаю, почему именно ты и есть та единственная женщина, которая мне нужна? Что в тебе такого особенного? Ты красивая, но ведь многие красивее тебя. И умнее, и интереснее, и добрее. Ты скупая. Гораздо скупее многих женщин, каких я знал. И ты…
— Хидди, ты, кажется, пьян? — перебивает она его.
— Пьян? Уже второй раз за сегодняшний день ты спрашиваешь, не пьян ли я! Да, я пьян, я опьянел с утра, когда увидел тебя. Потому что ты такая, какой была всегда: красивая, глупая, низкая, эгоистичная и до того скупая, что если и дашь что-то по неосторожности, то тут же норовишь отобрать. Я это всегда знал. И все-таки каждый день, как вернулся, смотрел на тебя, хотя до сегодняшнего дня ты меня даже не замечала. Наверно, я помешался…
До чего же он бывает несносен! И как все похоже на прежние времена! В ней закипает гнев, желание унизить его, обидеть, оскорбить. И помириться. Помириться так, как они мирились когда-то. Неужели она рискнет на такую глупость? Самое разумное распрощаться с ним раз навсегда. С Хидди всегда так, никто не знает, что ему через минуту взбредет в голову.
— Ты только затем и позвонил, чтобы сообщить мне это? — спрашивает она дрожащим голосом. — Я помню, что ты мне уже говорил это однажды. А сейчас я намерена лечь спать. Спокойной ночи!
— С ним? — спрашивает он сердито.
Свава отвечает с достоинством:
— Конечно. И с моими детьми. Ты уже забыл о них? А ведь, кажется, ты видел их сегодня утром.
Наступает долгое молчание. Она наслаждается этим молчанием, несмотря на слабость в коленях и на то, что в коридоре стало холодно. Она чувствует, что влажный воздух приникает к ее телу, пронизывает ее острым ледяным страхом, как сегодня вечером в комнате старика. Наконец она снова слышит его голос, уже другой, естественный.
— Я понимаю…
— Вот и хорошо, — говорит она весело. — Ты так серьезно ко всему относишься. Но я-то знаю, что ты это на себя напускаешь. Расскажи мне лучше что-нибудь интересное.
— Интересное? — повторяет он мрачно. — Свава, ты сведешь меня с ума. Я покончу самоубийством.
Она знает, что Хидди никогда не решится на что-нибудь подобное. Но она счастлива, что он сказал эти слова, потому что она наконец-то может засмеяться. И все это время она думает, как смешно и глупо, что она должна сидеть здесь, а он в другом месте. Что рука ее должна сжимать холодную трубку, а не лежать в его горячей ладони, как сегодня днем, как много-много раз в прежние дни…
— Это твое дело, — говорит она, смеясь. — Как хочешь.
Она нашла правильный тон. И он подчиняется ей. Теперь, как и прежде.
— Неужели ты настолько бессердечна? Подумай, что напишут газеты, разумеется на первой странице: «Известный художник утопился в порту. Труп еще не найден». Или так: «Сегодня утром в порту был обнаружен труп. Опознать почти невозможно. Подозревают…»
— Перестань! И слушать не хочу! Какой ты противный! — Она чувствует, что на нее кто-то смотрит, и не поворачивает головы. Ведь это Йоун. Она и не слышала, когда он вернулся. Она знает, что нужно продолжать разговор, болтать пустяки, чтобы скрыть свой страх от них обоих, нужно смеяться, притворяться…
— Ведь мы взрослые люди, — уже второй раз передразнивает ее голос в трубке.
И она смеется.
— Господи, что за чушь может прийти тебе в голову?
— Свава, когда? Завтра?
Она спокойно поворачивается и отвечает ему, кивая мужу:
— Я тебе уже сказала, что это неудобно. Невозможно. Ты понимаешь смысл этого слова? Тебе ясно?
— Нет, не ясно. Почему невозможно? Разве есть невозможные вещи?
И она снова смеется.
— Вот глупый! Сколько угодно!
Муж молча проходит мимо нее в гостиную. Она смотрит ему вслед.
— И много?
— Да.
— Что, например?
— Ты, например, невозможный.
Нет, между ними ничего не будет, думает она, слушая голос, доносящийся из далекого дома.