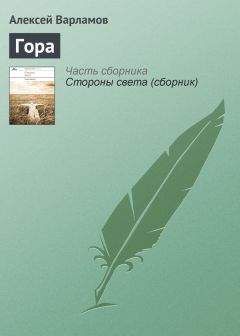Ознакомительная версия.
И был Дедову сон, но приснилась ему не Катя, а пришел снова Одоевский, покачал головой и, оставшись где-то вдали, крикнул, но будто шепот расслышал Дедов:
– Дед, ну почему ты такой дурной и меня не послушался? Эх ты…
И в этом зыбком сне Дедов потянулся к спасенному кем-то товарищу, но Одоевский исчез, оставив его одного в занесенном снегом зимовье, и Дедов, здоровый, сильный мужик, каким он всегда себя считал, неожиданно проснулся в слезах, как ребенок, и плакал до утра, не стесняясь Чары. Однако утешения ему эти слезы не принесли, они лишь исцелили его от страха перед тайгой и морем, но исцеление это не было радостным – на что теперь нужна ему эта тайга?
Через две недели море наконец встало. С утра Дедов ушел за дровами, а когда вернулся, то увидел у зимовья следы. Он торопливо открыл дверь: у печи сидел постаревший лет на пять, какой-то измятый Курлов и грел руки.
На столе стояла бутылка спирта и лежала строганина.
– Ну здоров, – сказал гость. – Че на Новый год-то не приходил?
– Что, был уже? – спросил Дедов равнодушно.
– Ты че? – Курловская физиономия вытянулась. – Совсем, что ли, тут одичал? Да уж неделя завтра, как в новом году живем. И так он море в этот год раньше стало, зима-то какая.
Они выпили спирту, и Дедов без всякого интереса спросил:
– Ну как там у вас?
– Да ничего, живем – хлеб жуем.
– А ты ж вроде уезжать собирался, – вдруг вспомнил Дедов.
– Э, брат, – махнул рукой Вовчик, и лицо его еще больше сморщилось: – тут такая история вышла. Одним словом, обманула меня лахудра моя. Каператив на мои денежки выстроила, на себя записала и хвостом вильнула. Мол, я с тобой развожусь и знать тебя не желаю. С кем-то она там снюхалась. Мне Буранов говорит, в суд надо подавать, помочь обещал, а я думаю – ладно, хрен с ней, пусть подавится этим каперативом.
Он длинно и сочно выматерился, разлил спирт и, чокнувшись с Дедовым, продолжил:
– Да и то сказать, как мы с ней жили: собачились, ни ей радости, ни мне. А старуха-то ее, она мне в ноги упала, прости, говорит, батюшка Владимир Игнатьич, прости дуру. Я ей: «Ты-то тут при чем, старая, знала, что ль, все, да молчала? Ну так и чего от тебя еще ждать, порода ваша разэдакая». А она вскочила, крестится: «Ей-богу, – говорит, – не знала, батюшка, ей-богу. Опозорила меня дочка моя, видеть ее после этого не желаю. Не гони меня только, Христа ради». Я ее спрашиваю: «А чего тебе тут?» Она как заревет: «Я тут привыкла, у меня тут хозяйство, все козочки мои, курочки, гусочки, не гони, Христом Богом прошу». А у меня, сам знаешь, сколько на нее зла. Плюнул, повернулся, уйти хочу, а она, что ты думаешь, только руки мне не целует: «Не гони, я тут помереть хочу, место для могилки приискала, тут вольно, хорошо».
– И название соответствующее, – буркнул Дедов.
– А? Ну я и говорю. А то, твердит, в городе и лежать-то негде. Сожгут-де меня. Она, вишь, пуще всего боится, как бы ее в крематорий не свезли.
– Ну и ты что?
– Что, что? И то, я так поостыл и думаю: «Че ее гнать, старую?» Друг твой, царствие ему небесное, хоть и смеялся надо мной, уж не живу ли я с ней, а я инда гляну на нее и впрямь будто жена моя, свыкся уж. И она первое-то время как шелковая ходила, все «батюшка Владимир Игнатьич», пироги кажный день пекла, а теперь опять за старое взялась, ругается, дерется.
Дедов усмехнулся.
– Че лыбисся-то? Буранов от тоже угодил. От уж, казалось, этот жучило нигде не пропадет, а на его шею хомут нашелся. Окрутила его фифа наша.
– Катя? – Дедов побледнел.
– Ну. И как окрутила. Он, вишь, после того, как Москва потоп, сдвинулся маненько, тайгу забросил, и рыбалку, и охоту, все за ней ходил как тень. А она хоть бы глянула на него. Уж и старуха моя ее стыдить начала. Чего, говорит, тебе ишо дуре нужно, какой человек тебя вниманьем удостоил. А она молчит, хоть бы улыбнулась. И тоже с приветом. Алена-то Гордеевна на Покров гуся собралась жарить, а та не дает. Ни одного, представляешь? И гуси от нее ни на шаг. Ну это ладно. Старуха-то моя гусей вроде тоже пожалела, а ей говорит:
«Ты Москву забыть, что ли, не можешь? Жалко, конечно, что потоп, но пустомеля он был. А Буранов – хозяин, с ним как за стеной будешь жить, все у тебя будет».
Та только морщится. А Буран наш, как она его отошьет, на берег сядет и сидит себе камешки в воду бросает. Осень, ни сети не ставит, ничего. Так месяц прошел, вдруг однажды приходит она к нему и говорит:
«Послушайте, можете вы для меня одно дело сделать?»
Он говорит: любое.
«Поставьте на берегу крест».
Он аж затрясся: ты, говорит, меня за мальчика, что ли, держишь?
Ему понятно, прилетят дружки его, глянут, что он натворил, – это ж скандал. А она одно заладила: если хоть чуточку со мной считаетесь – поставьте.
И тут гляди-ко: я думал, Алена Гордеевна снова стыдить ее начнет, а она губы-то подожмет, ну знаешь, как она губы-то поджимает, и говорит: «Уважь просьбу, Василь Андреич». Буранов побледнел, выскочил. А назавтра, глядь, ушел в тайгу и лиственницу тащит. И стал тесать, долго тесал. Ну поставили мы ему крест, как раз под ноябрьские праздники на сороковой день вышло, помолчали – добрым словом вспомнили.
Она говорит: «Вы его не знали, а он добрый был, справедливый». Я вот теперь рассуждаю: любила она его, что ль? Да нет вроде – помыкала, смеялась – все ж на моих глазах было. Бензин мой прокатывали.
– Какой еще бензин? – встрял безнадежно унылый Дедов.
– Хитрый ты парень, – прищурился Вовчик, – ох хитрый. Я тогда еще себе думал, что с Москвой-то она так, балуется, а сохнет по тебе. Ладно, это начало еще. Ты слушай, слушай, как оно дальше было. Поставил он, значит, крест, здоровый такой, сто лет простоит, не сгниет, и давай: я для тебя, что просила, сделал, теперь, дескать, твой черед. А она – и, заметь, на людях все – это ты, говорит, для себя сделал. Но вишь, коли такой оборот, старуха моя опять пропаганду ведет. Выходи да выходи, но теперь с другого бока, мол-де, пропадет мужик, пить начнет, места себе не находит, того гляди, лихо будет. А она все как будто чего-то ждала. Ждала, ждала, уж декабрь, снег кругом, холод, и вдруг говорит так тихонечко, грустно, но уж больно решительно:
«Поехали».
«Куда?» – спрашиваем.
«В Онгурен, в сельсовет».
«Ей, – говорит, – милая, ну куда мы ж теперь поедем, эка тебе приспичило. Теперь уж января надо ждать, лед станет, тогда и поедем. А счас волна-то какая, на льдину не ровен час налетишь, это ж все. За Москвой прямым ходом пойдешь».
«Нет, сейчас или никогда».
Ну, смеется девка чертова.
«Поедем, именно сейчас. Когда волна».
На Буранчика глядеть страшно: море-то кусается, вроде баргузин, зыбь, а ну опять гора налетит? У него хоть мотор и японский, тут все может быть. Мы ее в три глотки отговариваем, гуси эти чертовы хлопочут, собаки лают, а она на старуху как глянет:
«За ним должок по этой части водится». И на море кивает.
А до Онгурена, сам знаешь, два часа ходу.
И уехали. Алена Гордеевна их на берегу провожала, все крестилась, гуси аж в воду залезли, на невесте лица нет, он тоже бледный. Будто не на свадьбу, на похороны собрались. А она-то в шубке соболиной, Буран ей подарил, красивая, глаз не отведешь, девка. Ты-то нет, а я-то всю ее видел, знаю, че говорю.
Вовчик вздохнул, чмокнул губами и потрепал свою шкиперскую бородку.
– Гляжу я на нее, грешный человек, и думаю: жалко шубку, хорошая шубка, тыщ десять такая стоит, не меньше. Соболь-то отборный. И как в воду глядел.
– Что? – поднял голову Дедов.
До этого момента он сидел уткнувшись носом в кружку, и Вовчику было непонятно, слушает его Дедов или нет. Но теперь, удостоверившись, что слушает, Курлов позволил себе сделать столь приятную для рассказчика паузу, выпил водки, предварительно сунув в стакан безымянный палец правой руки и коснувшись им стола, дабы ублажить бурхана и иметь фарт, закусил, закурил, помолчал, глянул на убитого горем лесника и продолжил:
– Это уж потом Буранов рассказывал. Добрались они худо бедно до Онгурена. У хозяина там все схвачено, всех по рации предупредили, их ждут. Но не сообразили – свидетели нужны. Ладно, она ему говорит – ты со своей стороны выбирай, а я со своей. Где тут улица Советская? Ну показали ей. Нашла она какую-то халупу, вдова бурятка там живет, может, помнишь, муж у нее три года назад потонул. Ну и зовет ее: можно, дескать, вас попросить, мы-де в затруднительном положении.
Та сперва не соглашалась: «Мне, – говорит, – и надеть нечего, мало ли у нас народу живет, вон туда пойдите или туда». А наша ни в какую: «Мне именно вы нужны». Ну ладно, согласилась она, детей на соседку оставила и пошли. Расписали их как положено, руки пожали, кольцами они обменялись, ну поцеловались, само собой.
Дедов вздрагивал от каждого слова, точно его лупили молотком по голове, а помолодевший Курлов вдруг каким-то не своим высоким голосом хихикнул:
– И что она учудила?
– Что? – спросил лесник с отчаянной надеждой.
– Сымает прилюдно шубку и женщине той одевает: носи, милая, на память. А мне пальтишко свое давай. Зипун там какой-то. Бураша наш чуть не упал. А она ему так зло: «Что, не нравлюсь такая? Может, сразу разведемся? Теперь так и будет. И хапать у меня больше ничего не будешь. Сеть не поставишь, капкана лишнего». Налетела на него, опозорила перед всеми. Да, брат, – вздохнул Курлов, – так и пропадаем мы все через баб. Так что Буранчик наш совсем одомашился. Сидит книжки читает и такой довольный – сколько я его знаю, никогда таким не видел. А и то сказать – и здесь он не прогадал. Через неделю заходит к нам «Чароит», на зимовку они уходили, и там начальник ихний Бочкарев. Так и так, говорит, с будущего года делают тут заповедник. От Рытого до Елохина. Так что кончилась наша вольная жизнь. Ты рад?
Ознакомительная версия.